
ОТ АВТОРА
«Боже, очисти грехи моя и помилуй мя».
(Молитва).
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Родненькие мои!
С самого раннего детства мы уяснили и покорно смирились с конечностью нашего земного бытия. Смирились не просто так, ради послушания и укрощения своей гордыни, а ради жизни вечной и загробной. Земная смерть для православно верующих людей, то есть для нас с вами — великое благо — открытие нового и неведомого загробного мира. Справляясь же о состоянии, лежащего на смертном одре человека и спрашивая: «ну, как он там?», мы часто слышим в ответ: «да, уже на Божьей дорожке».
Не один раз нам приходилось слышать такие слова!
Люди отвечают так, не задумываясь. Отвечают, как давным-давно уже принято отвечать. И, слава Богу, что им недосуг вдаваться в подробности и излишнее многословие. Мысли и помыслы у них о другом. Это понятно, и очень даже простительно.
Но соль моей мысли не о том.
Родненькие мои!
С момента своего появления на свет, человек, как дивный образ и подобие Божие, обретя свою чистую душу, уже никогда и не сходит с Божьей дорожки. Другое дело, что земная длина её у каждого разная. А уж о делах и говорить не приходится. Дел у нас накапливается столько, что лишь только Господу под силу в них и разобраться. Божья дорожка для всех людей предназначена. И не важно, верующий ты человек или нет. Православной или иной конфессии. По Божьему произволению, человеческая душа – православная христианка. И каждому человеку, независимо ни от чего, Господь желает спасения.
Как и Ангелы Божии, мы вольны в своих делах и поступках. Вольны грешить или не грешить. Правильно веровать или же нет. За земные грехи с нас и спросится на Страшном Суде. Спросится со всех. С верующих и неверующих. Православных и инославных. Спросится строго, но справедливо. И тщетны надежды грешников и нерадивых. Никто не укроется и не избежит Страшного Суда. Помните об этом! Помните и трепещите! Царство же Небесное унаследует лишь малое стадо Церкви Христовой.
А всех остальных ожидает ад.
Как это ни печально.
Но, по слову Господа нашего Иисуса Христа, да будет так.
Много лет тому назад, когда ваш покорный слуга ещё только, только приближался к Церковным вратам, думалось мне окаянному, что в Церкви Божьей, среди верующих людей, царит мир и братская во Христе любовь, смирение и уважение друг к другу, послушание пастырям, а так пуще того – архипастырям. Что царит в Ней счастье и благоденствие, и ещё многое, многое другое и всё такое же прекрасное, богоугодное и спасительное. Не знаю, как и кому, а мне по простоте и доброте душевной, по незнанию и наивности думалось именно так и никак иначе. Прости меня, Господи, за такие откровения!
Говорю, как на духу.
Едва переступив Церковный порог, тут-то дьявол и начал меня искушать. И чего только за этим порогом я — немощный не увидел. От увиденного неприглядства показалось и грешным делом, подумалось мне и не раз, что за Церковной оградой-то много светлее и почище будет.
Уже только потом, некоторое время спустя и время значительное, духовные люди мне разъяснили, что по-другому в Церкви просто и быть-де не может. Что за Церковной оградой сатана своих-де людишек не трогает, а людей Божьих всё время искушает, вводит в грех и ни на минутку их не оставляет. Сатана действует изнутри, а мировая апостасия снаружи. Человек же слаб и немощен. Молитвенники из нас никакие. Это понимать надо. Оттого вот и такие страшные в Церкви отступления и нестроения.
Что на это сказать? Конечно, правы духовные люди.
Истощилась Церковь Земная. Истощилась у людей – у нас Вера. И в значительной степени, иссякла любовь к Богу и себе подобным. Близится время антихриста. И дыхание конца мира сего ощущать не может лишь самый безчувственный и самый порочный человек.
Родненькие мои!
Цель настоящего рукописания не в искании ответа на вопрос, кто же во всём этом виноват? Это и так каждому из нас ясно и понятно. Кто же виноват, как не мы сами – грешные земнородные люди! И уж не в поисках оправданий перед человеческой ложью, которая обильно излилась на меня за всё это время, я взялся за перо. Поделом мне окаянному! Всех я прощаю! И меня простите! Перед Богом ведь никакими словами не оправдаешься. Потому и цели настоящего рукописания, как таковой — нет и в помине. Пишу, что было. А тороплюсь рассказать вам ещё и потому, что боюсь не успеть, ибо, по великой милости Своей, Господь уже указал конец дней моих.
Прошу и надеюсь на ваши молитвы.
Аминь.
«Не торопись языком твоим, и сердце твоё да не спешит произнести слово пред Богом; потому что Бог на небе, а ты на земле; поэтому слова твои да будут немноги. Ибо, как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познаётся при множестве слов».
(Книга Екклесиаста, или Проповедника. 5. 1-3) [*].
"На Божьей дорожке"
ПРОЛОГ
«Страх Господень всё превосходит, и имеющий его с кем может быть сравнен?».
(Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова. 25. 14).
- Побудешь у епископа Виктора послушником. Он тебя пострижёт в мантию и рукоположит в дьякона. Ты уже к этому давно готов. А года через три, Бог даст, рукоположит тебя и во пресвитера, - такими словами начал моё напутствие перед дальней дорогой отец Валерий Рожнов.
Напутствие это случилось в конце сентября 2003 года от рождества Христова. Мы сидели с ним на бережку сильно заиленного деревенского пруда и мельком посматривали за Мишей – младшим сыночком отца Валерия. Миша, то и дело, забрасывал свою удочку в воду, в надежде поймать хоть одну маленькую рыбку. Но, увы, бедная рыбка на крючок всё не цеплялась. Миша бегал с места на место по крутому бережку, проявляя недовольство и по-детски капризничая. Мы оба хотели Мише помочь и в тоже время опасались, дабы, не приведи Господь, мальчик не свалился в воду.
Без взрослого пригляда оставлять его ни на минуту было нельзя.
- Я в тебя верю и знаю, что ты справишься с послушанием, - продолжал своё напутствие мой духовник и старинный приятель [1].
Из Казацкой степи [2] повеяло горькой полынью и по зеркалу пруда пошла мелкая, водная рябь. Солнце стояло в зените, но особого тепла уже не ощущалось. Конец сентября в Черноземье не всегда бывает столь приятным и по-летнему тёплым.
- А что ты знаешь о епископе Викторе? – спросил я отца Валерия.
Отец Валерий умолк. И по привычке охватил мозолистой дланью свою рыжую бороду. Хитро посмотрел на меня и по-отечески улыбнулся.
- Ты знаешь, я не могу тебе полно ответить на этот вопрос, - он опять замолчал, но потом, спохватившись, продолжил. - Все мы не без греха. До Воронежского пастырского совещания [3] я владыку Виктора не знал и представь себе, даже ничего о нём не слышал. В Воронеже он мне показался вполне православным батюшкой. На совещании хорошо и правильно выступил. Вот с тех пор, я его и заприметил. Когда же встал остро вопрос о поставлении епископа на Россию, то ко мне за помощью обратился отец Вениамин Жуков из Парижа. Ты о нём уже слышал, это наш секретарь Синода. Ни одного вопроса по России отец Вениамин не решает, предварительно, не посоветовавшись со мной. Говорю тебе это по большому секрету и как другу на будущее. Я вижу тебя епископом нашей Церкви. Но до этого всем нам ещё предстоит долгий и трудный путь. Так вот, когда ко мне обратился отец Вениамин за советом, я и указал ему на отца Виктора Пивоварова. После коротких уговоров, отец Виктор согласился нести этот тяжёлый архипастырский крест. Остальные подробности ты знаешь не хуже меня. В Париже, три месяца назад, состоялась его хиротония во епископа Славянского, викария всей Европейской епархии [4].
- Я тебя, отче, не об этом спрашиваю.
- А о чём?
- Мне хотелось бы услышать о владыке Викторе, как о человеке, а не историю его поставления во епископы.
- Я же тебе уже сказал, что все мы не без греха. Владыка Виктор обыкновенный и очень простой человек. Закончил МДС, а из академии его выгнали. Был женат. И, кажется, жена его сошла с ума. Больше ничего о нём я не знаю. Правда, мне приходилось слышать от него некоторые высказывания из области мистического богословия и о его, якобы, особом в Церкви предназначении. Вот и всё. И так это или не так, я не знаю. Да и не берусь об этом судить. Высказывания владыки показались мне странными. Ну и что из того? Епископ тоже, ведь, человек. И до тех пор, пока он публично не учит ереси, а в личной беседе высказывает некоторые странные или, скажем, сомнительные вещи, то это вполне допустимо и нормально. Владыка же Виктор говорит так, что мне трудно понять, где границы православия, а где уже ересь. Вот поедешь, познакомишься с ним и на месте сам разберёшься. Он нуждается в твоей помощи и уже, неоднократно, спрашивал меня о тебе. Увидишь своими глазами и если что мне напишешь. Тебе надо срочно освоить компьютер. Зря ты его игнорируешь. Очень удобная штука. По телефону много не наговоришься, да и дорого очень, а через интернет письма проходят быстро и дёшево.
Отец Валерий неожиданно легко поднялся со своего места, отряхнул брюки от налипших сухих травинок и чтобы не слышал Миша, тихонько произнёс.
- Пошли, поймаем Мише рыбку. А то потом не даст мне покоя.
Я согласно поднялся и по узкой, прибрежной дорожке медленно пошёл за своим духовником. Ловить рыбку, признаться, что-то перехотелось. В голове появились новые мысли. И в душе поселилась тревога. Через пару часов мне предстояла дальняя дорога на Кубань, на послушание к епископу Виктору. И владыка Виктор, и отец Валерий моё путешествие благословили. В жизни случалось путешествовать и подальше Кубани. Севера ещё не покинули моё сердце. Но здесь впереди меня ожидало нечто другое, особенное и совсем не мирское. Впереди меня ожидало монашество...
И неизвестность.
Душа трепетала в тревоге. И мне было не до прудовой рыбки.
Но, слава Богу за всё!
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МИРСКАЯ СУЕТА
ГЛАВА ПЕРВАЯ. Родословная. Родное село. Детство
«Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу твою».
(Из 50-го псалма).
Небольшая речка Донецкая Сеймица берёт своё начало в Прохоровском районе, Белгородской области. Она огибает огромный кряж Среднерусской возвышенности и уже в соседней Курской области, впадает в полноводный и широкий Сейм. По всему течению реки и справа, и слева, в низинных и на возвышенных местах, густо разбросаны крестьянские поселения – сёла, деревеньки и хуторки. И названия-то все, какие: Масловка, Раевка, Кривошеевка, Радьковка, Журавка, Григорьевка, Петровка, Сергиевка, Васильевка…
Это всё названия сёл, а названий хуторов и не перечесть.
Люди поселились здесь с незапамятных времён. Земля богатая – чернозёмная. Не ленись только, трудись и она воздаст тебе с торицей. С Божьей помощью, конечно. Без Бога русские люди – ни шагу и никуда. С Ним ложаться. С Ним и встают. И работают.
Так было раньше.
Места наши вольные, хлеборобные. Донецкая Сеймица, несмотря на свою узость и кажущуюся неказистость, всегда славилась своими жирными карпами, щукой, плотвой, линью, налимами, пескарями, раками и устрицами. Если смотреть с высокого кряжа, далеко видно наши красоты. Поля, лесополосы, хутора и деревеньки. В хуторе Новосёловка [5], я и народился на свет. Случилось это 11 января 1956 года в Радьковской участковой больнице, а некогда, при царе, значит - больнице Земской.
Отец мой – Балабанов Михаил Афанасьевич работал тогда главным агрономом колхоза. А мать – Балабанова (в девичестве Шаповалова) Екатерина Кирилловна работала (в том же колхозе) в полеводческом звене свекловичницей. Проживала вместе с нами в хате и бабушка по отцу – Балабанова Анастасия Гавриловна. Бабушка тоже работала в колхозе, в так называемом звене престарелых свекловичниц. На её плечи, в основном и легло моё воспитание, а точнее, пригляд.
Детская память цепкая. Она, как магнитом притягивает явления интересные и запоминающиеся. Со временем многое уже повыветрилось с головы. Однако первое и вполне осознанное, что запомнилось на всю жизнь, я помню. И помню, как ни странно, не отцовское или материнское прикосновение. А прикосновение, как бы и постороннее. Хотя и не совсем. Помню тёплые руки своей прабабушки.
Мне потом рассказывали, что она долгое время была в монастыре простой монашкой. Монастырь тот советская власть разгромила, а всех монашек выгнала на улицу. Моей прабабушке деваться было некуда и в конце тридцатых годов, она вернулась на родину в родное село. Что меня особенно поразило в том рассказе, что она не оставила молитву к Богу. Несмотря на гонения, молилась по ночам одна. Долгое время молилась. Потом к ней стали приходить верующие в Бога люди. Молились сообща. Представьте себе. После тяжёлого трудового дня в колхозе. После всех домашних работ. А их в крестьянской семье предостаточно. Усталые люди приходили в развалюху-хату к прабабушке-монашке и вместе с ней становились на молитву. А вокруг советская лютость, безбожие, богоборие, НКВД…
И жуткий, едва ли ни животный страх пред сильными мира сего.
Поразило меня ещё и то, что никто из односельчан так и не донёс в карающие органы. Никто не стал брать на душу грех доносительства на богомольцев. Слава Богу! Господь оградил земляков от такого тяжкого греха. После войны прабабушка ослепла. И когда я народился на свет, она уже ничего не видела. Ей хотелось потрогать дитя. Вот её прикосновение рук – первое, что я и запомнил.
Звали ту мою прабабушку Наталией. И Бог весть, теперь вот сам себя часто спрашиваю, а не святой ли она человек?
Фамилия – Балабанов – на Руси не такая и редкая. А в наших местах так и вообще, распространённая. Рядом хутор Балабановка, где в мою бытность жили почти все Балабановы [6]. Много таких фамилий в районе и области. Род Балабанов - наидревнейший. Корни его уходят глубоко в старину, в Галицко-Волынское княжество. Мой древний предок носил тогда фамилию Балабан и был одним из самых ближних бояр князя Даниила Галицкого.
Немало из рода Балабанов вышло и церковных людей: архимандритов, епископов и даже случился один митрополит. Митрополит Киевский и Галицкий Дионисий (Балабан), как раз и будет из нашего рода [7]. Об этом я узнал значительно позже. Говорила мне о том моя бабушка, да я всё ей не верил. Думал, какие там митрополиты, если все в роду сплошь крестьяне. И только потом, когда вплотную столкнулся с церковной историей, выяснилось, что бабушка говорила мне правду.
Уния с католиками положила начало миграции рода. Не стали мои предки мириться с ней и постепенно многие из них перебрались в Московское царство. С той поры и живут на православных землях Святой Руси. Вернее сказать жили…
Советская власть всё переврала, перекорёжила и перемолола. Не избежал всего этого и мой род. О древности рода я уже упомянул. При православных же царях и императорах, в 18-19 веках, мои предки служили не только царскими стольниками, но и купцами первой гильдии, священниками. Одного из протоиереев советы повесили в Полтаве. Других позднее раскулачили, разбросали по тюрьмам и концентрационным лагерям и, так или иначе, сжили со свету.
Дедушка – Афанасий Семёнович Балабанов – долгое время регентовал в церкви Свято-Троицкого прихода, что в соседнем селе Журавка. К Свято-Троицкому приходу мы и были приписаны. В тридцатых годах храм в Журавке активисты сломали и растащили по своим домам. Как напоминание, остался от храма один фундамент. Его ни ломы, ни кувалды не взяли. Как ни старались долбить, ничего у богоборцев не получилось. Я помню тот церковный фундамент. Обучаясь в Журавской восьмилетней школе, мы всем классом ходили на него смотреть. Ходили не сами по себе, а вместе с учителем. Как на экскурсию. Увиденное зрелище оставило тревожный осадок в душе. Стоит ли он, и до сей поры или же нет – того я не ведаю.
Скорее всего, там ничего не осталось. Как ничего не осталось от многих удалённых деревень и хуторов. Не осталось даже следа.
Дедушка Афанасий погиб на войне в 1943 году [8]. Не избежал войны и мой отец. Семнадцатилетним пареньком его забрали на фронт [9]. И в 1944 году, под украинским городом Корсунь-Шевченсковским, он получил тяжелейшее ранение. Разорвавшимся снарядом от немецкой самоходки отцу оторвало правую руку. Осколок навылет пробил грудь.
И что удивительно, осколком и так же навылет, ему пробило шею. Как кусок железа мог пробить шею, не зацепив жизненно важных жил? Для меня это так и осталось загадкой. От советско-германской войны у отца осталось не только тяжелейшее ранение, но и полное молчание о ней. О войне он даже нам, своим детям, почти никогда и ничего не рассказывал. Другие участники войны рассказывали о ней охотно и много. А он нет. А вот по ночам отец страшно и дико кричал. Мы все тогда в страхе просыпались и потом долго не могли заснуть. Снилось ли ему, что? Или же мерещилось, как наяву?
О том мы его никогда не спрашивали.
Возвратившись, домой из госпиталя и, имея за плечами десять классов средней школы, что по тому времени считалось приличным образованием, он начал работать в колхозе сначала счетоводом, а по окончании агрономического техникума, главным агрономом. В компартию отец вступил не на фронте, а сразу после смерти Сталина.
Без руки крестьянствовать в домашнем хозяйстве очень сложно. Кто жил на селе, тот это поймёт. Поэтому, несмотря на отцовскую должность и вроде бы, гарантированные трудодни, жили мы не богаче соседей. А я так полагаю, что жили мы гораздо беднее. Моей матери, то и дело, приходилось просить помощи у обоеруких родственников и односельчан.
При моём рождении, о крещении в патриархийном храме не могло быть и речи. Красный поп тут же доложил бы, куда следует и отца бы сразу уволили с работы. И что тогда потом делать? Ходить по хуторам и просить у таких же бедных людей милостыни? Мать же, будучи человеком богобоязненным, не могла меня не крестить. Да и отец всё прекрасно понимал. Поэтому и решили окрестить меня тайно у катакомбного священника. В семи километрах от нашего хутора жил один такой древний старец [10], который, случалось, крестил таких же, как я. В округе не один мой отец боялся наказания за крещение своего дитяти.
Зимней ночью старец меня тайно крестил.
Таким вот образом, Господь избавил меня от приобщения к советской лжецеркви. Об этом пишу без всякого пустого бахвальства, ибо никакой заслуги в том моей нет.
Родословная по материнской линии выглядит значительно проще. Многочисленный род Шаповаловых, испокон веку, занимался землепашеством. И во все времена (от самого первого поселенца) безвыездно жил тихо и мирно в старинном селе Радьковка [11].
Мой дедушка – Шаповалов Кирилл Козьмич – слыл по селу человеком добрейшим и в помощи безотказным, за что ему часто и доставалось от моей бабушки Христины. Если добираться до них по лугу, то надо отмахать километров пять. А если идти по просёлочной дороге, то и в семь не вберёшься. Как только я подрос и стал на ноги, меня можно было часто видеть у них в гостях.
Дедушка Кирилл научил меня косить и молотить цепом зерно. Он же привил мне и любовь к домашним животным. Ещё дедушка всегда разговаривал со мной, как со взрослым (что мне очень нравилось) и я до сих пор помню те его взрослые разговоры.
Он тоже воевал и от войны (после ранения) у него осталась заметная хромота. К хромоте он привык. И она ему особенно не мешала. С дедушкой мы сильно сдружились. Мне было с ним так интересно, что почти каждое лето я проживал вне родимого дома.
Один из его рассказов о революции мне запомнился наизусть. Тогда, будучи ещё подростком, он вместе со своими сверстниками бегал в соседнее село Васильевку смотреть на осатаневших мужиков, грабящих барское добро [12]. В то время ему уже исполнилось тринадцать лет и «Васильевскую революцию» он запомнил на всю жизнь. Когда дедушка о ней рассказывал [13], я сидел, где-нибудь, рядом поблизости и со страхом внимал каждому его слову, стараясь всё запомнить и не дай Бог, ничего не пропустить.
Быстро сменяя друг друга, в моей детской головке рисовались красочные и страшные картины разбоя. Будто не виртуально, а наяву, видел я то революционное сумасшествие. Видел разъярённых, и что-то кричащих мужиков. Видел мечущихся в загоне перепуганных барских лошадей. Слышал споры, матерную ругань, звон разбивающихся окон, посуды. И не только видел и слышал. О, если бы только это одно! Я не только видел и слышал, но и всей своей детской душой переживал и остро ощущал боль от глубины человеческого падения. Эта глубина, как ножевая рана жгла и кровоточила в моём сердце.
В конце дедушкиного рассказа присутствовал эпизод с насмерть перепуганными барскими детками. Когда он доходил до этого места с детками, я замирал, и на моих глазах тут же выступали слёзы. Мне было так жалко деток, что удержать слёзы я не мог. Они переполняли глаза и лились сами собой. Украдкой от дедушки, я их пробовал вытирать. Но слёз скапливалось столько, что вытирать их голой рукой я не успевал. А они, как назло, всё лились и лились [14]. Рассказ обычно заканчивался вопросом о судьбе барских деток. К моему великому сожалению, он не знал, что с ними стало потом.
В отличие от отца, рассказывал дедушка и про войну. Про пехоту. Про ранения. Про немцев. Рассказывал о том, как он лежал в госпитале в далёком северном городке Онега. На фронте дедушку ранило дважды. При первом ранении пуля пробила навылет грудь. На удивление, пулевое ранение быстро зажило и в госпитале, он тогда пролежал недолго. А вот второе ранение оказалось значительно тяжелей. Минный осколок вырвал заднюю поверхность бедра. И с этой раной дедушке пришлось изрядно помаяться по фронтовым госпиталям, на многое насмотреться и многое пережить. Почти до самого конца войны он находился в госпитале на излечении. Военные врачи сделали всё, что смогли.
Однако хромоты избежать не удалось.
Она так и осталась до конца его земной жизни [15].
В Радьковке храм богоборцы не тронули. Но служить в нём запретили даже сергианам. Так он и стоял до самой войны без людей. Когда же пришли немцы, то храм они сразу открыли и уже после, службы в нём никогда не прекращались. Мои родные (дедушка и бабушки), хотя и были людьми богобоязненными, в храм этот молиться Богу не ходили. Не верили они красным попам. В хатах, на святых углах стояли иконы и висели лампадки. Молились перед ними по утрам и вечерам. И ещё молились перед принятием пищи.
Что тут сказать?
Правильно молились.
Жили мои земляки бедно и боязливо. Как каторжные, с утра и до вечера, работали на земле. В нужде и с горем пополам растили детей. И боялись не столько Бога, сколько проклятой советской власти. По своей немощи и постепенному отходу от православной веры, люди считали, что до Бога далеко и если, что, то Бог, глядишь, простит и помилует, а власть, вот она, рядом. Ходит за тобой проклятущая тенью. Она такая, что не простит, не помилует. И главное, никогда не знаешь, что она злющая выкинет. Ничего хорошего от неё не жди. Да никогда и не ждали. А вот сломать хребет человеку, унизить, а то и лишить его бедного жизни, это она может. Это она запросто. Множественные примеры у всех на глазах ещё не померкли и так запечатлелись в памяти, что ни с глаз не стереть, ни из памяти сразу не выкинуть [16].
Много раз мне доводилось слышать от деревенских мудрецов и старожилов рассказы о прежней, царской власти. Они её не хвалили. Нет, не хвалили. Но и не ругали. Просто, как длинную повесть, рассказывали о прежней жизни, а сравнивать и домысливать мне уже приходилось самому. И сравнения эти получались далеко не всегда в пользу советской власти [17].
Во времена Российской Империи, при царе-батюшке, Радьковская слобода (позднее волость) входила в состав Корочанского уезда, Курской губернии. Населяли её исключительно русские люди казацкого и вольного крестьянского сословия.
Заселяться же по руслу Донецкой Сеймицы православные люди начали давно. Точную дату, окромя Господа, теперь уже никто и не помнит. Но, как утверждают современные историки и местные краеведы, землепроходцы-поселенцы в наших краях появились не позднее семнадцатого, а то и шестнадцатого века.
До тихого Дона от Донецкой Сеймицы рукой подать.
Поэтому первые Радьковские хутора и поставили не абы кто, а самые, что ни есть, настоящие донские казаки. Этот неопровержимый факт подтверждается не только исторической наукой и народной молвой, но и припиской всего военнообязанного населения Радьковской слободы (а позднее волости) к Всевеликому Войску Донскому.
За столетия хутора разрослись и протянулись по руслу Донецкой Сеймицы на добрый десяток вёрст. Вольные чернозёмные земли обживались быстро. Однако казачество казачеством, а крестьянство крестьянством, но и Бога добрые люди не забывали. Деревянный храм Вознесения Господня казаки поставили почти сразу же. И простоял он в аккурат аж до 1808 года.
А в 1808 году, вместо деревянного храма (на средства казаков уже трёх Радьковских хуторов), построили большой каменный храм [18].
Люди из моих родных мест по социальной и духовной иерархии высоко вверх не поднимались. Жили всё больше, хотя и со Господом нашим Иисусом Христом, но приземлённо. Однако же и не без приятных исключений. На одном из Радьковских хуторов 20 декабря 1813 года родился будущий царский епископ Саратовский и Царицынский Евфимий (Беликов) [19]. На епископе Евфимии (Беликове), слава Богу, начинаются и заканчиваются все Радьковские знаменитости.
Как люди жили в Радьковке при царе-то батюшке - посудите сами. До 1917 года в нашей волости насчитывалось более тридцати ветряных и водяных мельниц [20]. Работало несколько маслобойных и валенко-валяльных цехов. Не говоря уже о том, что каждый квадратный метр плодороднейшей и лучшей в мире чернозёмной земли не пустовал и не зарастал понапрасну бурьяном (как это сплошь и рядом теперь), а строго использовался по-своему агрономическому назначению. Проходили у нас и ежегодные, осенние ярмарки. На этих ярмарках православные люди продавали излишки от трудов своих праведных.
Плотность населения достигала такой величины, что взрослым (и находящимся уже в церковном браке) детям не хватало места для самостоятельного поселения. Потому часто совместно и проживали огромными семьями, доходящими порой до сорока едоков и более.
Своих детей царские казаки и крестьяне учили не только сами по одной лишь Псалтири. Помимо обычной церковно-приходской школы, в Радьковке имелась ещё и земская школа [21], и второклассная школа Синода для подготовки учителей церковно-приходских школ [22]. А лечились мои земляки в Радьковской земской участковой больнице [23].
Революция и советская власть ограбила, укоротила, духовно оскопила и физически уничтожила всё крепкое, православно-монархическое и веками нажитое. Уничтожила под самый корень носителей русского православного духа, не говоря уже о полном уничтожении казаческого и крестьянского сословия, как таковых. Сотни и тысячи моих земляков (как сотни и тысячи крестьян из Масловки, Раевки, Кривошеевки, Журавки, Григорьевки, Петровки, Сергиевки, Васильевки [24]…) погибли в тюремных застенках, сталинских контрационных лагерях. Были раскулачены и выселены на окраины Совдепии. Умерли от голодной смерти в начале тридцатых и конце сороковых годов. Погибли в степях Монголии и Китая, в Карело-Финских болотах и лесах, на полях бывшей Российской Империи, в городах и полях Восточной Европы…
Господи! За что же нам такое Твоё наказание?
По грехам нашим. За отступление от Бога и Царя. За маловерие, неверие и богоборие. За всё то же самое, что и при праведном Лоте и при не менее праведном Ное.
И что тут ещё сказать?
Сказать больше нечего.
Хрущёв Курскую область укоротил. И в 1954 году на административно-политической карте СССР появилась Белгородская область. Уже в ней я и народился на свет Божий в январе 1956 года.
Представьте себе такую картину.
Крытую потемневшей от времени соломой небольшую хатёнку, где на крыше виднеется плетёный из лозы и обмазанный глиной дымоход. У хатёнки маленькие оконца, что почти у самой земли, подслеповато смотрят на улицу. Через узкую просёлочную дорогу стоит будка погреба. За хатой - сад и огород. За огородом - речка. По обе стороны от русла речки лежит широкий заливной луг. Если на дворе лето, то на нём пасутся коровьи и гусиные стада. А в речной воде вместе с утками купаются дети колхозников [25]. Если же на дворе зима, то весь луг и речка спят под чистым белоснежным покрывалом. По снегу веет позёмка и в воздухе трещит крепкий русский мороз. За лугом и в любое время года, вы легко и сразу же узреете высоченный кряж Среднерусской возвышенности. Кряж протянулся на многие километры. Их никто не считал. Но, кто не поленится и вдруг посчитает, то километров с тридцать, почитай, легко наберёт. На кряжу виднеется дорога. Если по ней идти пешком или же на чём-либо ехать, то через семь километров она приведёт в село Вязовое, потом в Чуево и дальше выведет прямо на Скородное, что не так уже далеко от городов Губкин и Старый Оскол. Кому-то эти названия уже приходилось слышать. (Впрочем, Америку я не открываю [26]).
На кряжу – поля. За нашим погребом, и дальше, за молочно-товарной фермой, тоже - поля. Хуторок наш маленький. По обе стороны от дороги стоят точно такие же неказистые, крытые соломой хатёнки. Всего их семнадцать. Хуторок протянулся на две сотни шагов. На одном его конце, через дорогу, что ведёт на кряж и ближе к Радьковке, находится хутор Мироновка [27]. А на другом конце, через лужок, лежит в непролазной грязи (если летом) хуторок Виноходовка и немного дальше (и уже на сухом, и открытом месте) стоит хутор большой - Балабановка. За ним следует Нижняя Гусынка, Закуток… (и так до самой Журавки). Через все эти хутора проходит дорога в село Журавка [28].
Самые мои ранние детские воспоминания связаны с нашей хатой. Хата у нас старая, неоднократно переложенная из вербных брёвен. Жилая комнатёнка одна и она такая маленькая, что маленькой кажется даже мне. Большую её часть занимает русская печь. От печи и до стены висит ситцевая занавесочка. Вместе с печью она разделяет комнату на две половины. На одной половине спим мы с бабушкой и младшим братом. На другой половине спят отец с матерью. На родительской стороне, находится Святой угол с иконами и лампадкой. Чуть дальше стоит их кровать. Рядом с кроватью, прямо у Святого угла, высится самодельный столик и около столика, грубой плотницкой работы, стоят две скамейки. Под потолком ещё висит керосиновая лампа с плоским железным абажуром.
Вот и вся обстановка.
Там, где спим мы, она ещё проще. Кроме бабушкиной деревянной кровати и подвешенной под потолком люльки [29] с младшим братом, на нашей половине больше ничего и нет.
Сенцы мне кажутся большими. Они сплетены из лозы и снаружи, как и дымоход, обмазаны глиной. В сенцах живут корова, поросёнок и куры вместе со своим петухом. В них же находится саманный закром с зерном и если на дворе зима или поздняя осень, то в сенцах стоит ещё и копна сена. Рядом с входной дверью приставлена лестница на потолок. Мне очень хочется по ней залезть и посмотреть, что же там лежит на потолке. Но я ещё очень маленький и лестничные пролёты для меня непреодолимо широки.
Пол в хате земляной и кроме летнего времени, он всегда холодный. Вымазан пол коровяком, поэтому в любое время суток в хате слышен запах коровьего навоза. Зимой, при отёле коровы, в комнату заносят новорожденного телёнка и привязывают его к печи. В сенях очень холодно и телёнок в них может замёрзнуть. К телёнку прибавляют и маленького поросёнка. Поросёнка поселяют под печкой. Когда в хате никого из старших нет, я смело подхожу к телёнку и глажу его по мокрой мордочке. Телёнок любит мои ласки и почти сразу же начинает лизать руку язычком. Язычок у него большой и шершавый. Мне очень щекотно, но ради нашей дружбы я стойко терплю щекотку. Завязывается у нас дружба и с поросёнком. Вначале он меня опасается, но потом быстро привыкает. Я залажу к нему под печь, где мы с ним долго и увлечённо играем. А, вволю наигравшись, часто потом засыпаем в обнимку. И телёнка, и поросёнка, украдкой от взрослых, я подкармливаю тёплым коровьим молочком. Наша дружба продолжается несколько недель. До тех пор, пока на дворе потеплеет. С приходом относительного тепла, телёнка и поросёнка переводят на жильё в сенцы.
В нашей хате тепло только летом и когда бабушка печёт в печи хлеб. В остальное время холодно. Хлеб бабушка печёт на закваске. С вечера просевает на сите муку. Добавляет в неё молочный обрат и замешивает всё это в большой деревянной бадье. Бадью потом ставит на печку. Ночью бабушка подбивает подошедшее тесто. Часа в четыре утра начинает топить печь. Когда дрова в печи прогорят, ставит формы с тестом на угли и закрывает печку железной заслонкой.
Через час хлебушко и готов.
Я всегда просыпаюсь от печного тепла. Немного нежусь в постели и только после встаю. Слышу, как мать в сенцах доит корову. А, подоив, заходит в хату и с улыбкой наливает мне полную кружку парного молока. Молоко я сразу не пью. А с нетерпением жду, когда бабушка вынет из печи горячий хлеб. Горячий хлеб с парным молоком – любимое моё кушанье.
Только что вынутый хлеб из печи ножом не режется. Бабушка отламывает от огромной круглой буханки горячую краюху и ложит её передо мной на стол. Я осторожно дую на неё губами и потихоньку отщипываю пальчиками мякиш. Вслед за мякишем споро идёт и парное молоко. Кружка с молоком быстро пустеет. Исчезает со стола и краюха хлеба. После столь ранней трапезы, я залажу обратно в постель и вскоре опять засыпаю. Такие дни для меня всегда большой праздник. В хате целый день тепло и ещё долго пахнет свежим хлебом. Хлебный запах распространяется и по всему хутору.
Когда выйдешь на мороз из хаты, его далеко слышно [30].
Хлеба семье хватает, как раз на неделю.
Одно плохо - с топкой у нас на хуторе прямо беда. Топят прессованным коровяком и реже соломой. Дров очень мало и их берегут для выпечки хлеба. А об угле никто и не думает. Какой там уголь?! Уголь появился позднее, когда колхозникам разрешили возить свою картошку на продажу в Донбасс. Туда картошку, а оттуда уголь. Раньше, при Сталине, на лугу копали торф, и люди зимой отапливались торфом. Но потом, при Хрущёве, копать торф почему-то запретили. Топи, чем хочешь. А, чем? Бабушка Анастасия целыми днями по холоду собирает бурьян и всё, что горит. Но таких бабушек, как она, по родимому околотку много, а горючего материала мало. Оттого в хате всегда и холодно. Как ещё мы с братом не простываем?
С коровой тоже проблема. Точнее, не с коровой, а с кормом. Кормить бурёнушку нечем. К началу весенних месяцев солома и сено кончаются, и ей приходится поедать даже сухую картофельную ботву. Выручает отец. Когда он на лошади приезжает домой обедать, то корове перепадает солома или реже сено из саней. Но отец приезжает обедать далеко не всегда. Колхозные дела намного важнее домашних. Он теперь у нас не только главный агроном, но ещё и заместитель председателя колхоза. За эти важные должности, мы все отца немножко побаиваемся, хотя по-прежнему любим и очень уважаем. Мы все гордимся отцом. И соседи нас за него тоже сильно уважают и почитают. Они у нас частые гости. И я это чувствую по заискиванию, и сюсюканью со мной в разговорах. Я быстро расту и уже многое понимаю.
Часто вместе с отцом к нам приезжают обедать какие-то важные дяди [31]. Они выше отца по должности. Говорят - уполномоченные из района. Мать готовит им что-нибудь вкусненькое. Я сижу на бабушкиной кровати за ситцевой занавеской, прислушиваюсь к разговору за столом и надеюсь, что от жующих и пьющих людей, глядишь и мне, что-нибудь вкусненькое, да и перепадёт [32].
Разговор за столом обычно всегда начинается, после первого выпитого стакана самогона и почему-то, с непонятного мне упрёка.
- Что ж это, Михаил Афанасьевич, - начинал нудно тянуть районный уполномоченный. – Ты человек заслуженный. На фронте кровь свою проливал, коммунист. Советская власть тебе должность такую доверила. И у тебя в хате, да ещё и прямо перед столом, горит лампадка и блестят иконы. Непорядок, Михаил Афанасьевич. Непорядок.
В таких случаях, отец виновато выдерживал длинную паузу, после которой кротко отвечал.
- А, что я сделаю. Мать у меня человек неграмотный, верующий. Хатка эта её. Не воевать же мне из-за икон с родной матерью?
Уполномоченный не спешил становиться на отцовскую сторону. Только после второго, а то и третьего стакана самогона мужская солидарность побеждала.
И он соглашался с отцовскими доводами [33].
Сказать по правде, голода я не захватил. Мать меня очень долго кормила грудью. И питался я материнским молоком до полутора лет, если не больше. Потом же жизнь пошла, хотя и не слишком хлебосольная, но жаловаться на неё грех. Хлеба на столе вволю. Есть коровье молоко и кислый борщ из квашеной капусты. Летом борщ со щавелем или лебедой и реже окрошка. Сала и мяса на столе мы долго не видели. Если какую скотинку и резали, то отвозили почти всё на базар. Копили деньжата на постройку нового дома. В старой хате жить стало сложно. Венцы нижние сгнили и соломенная крыша, в нескольких местах, протекала.
На трудодни же новый дом не построишь.
На Божий свет наши дети появляются с родительскими (прародительскими) схожестями (схожестями физическими, характером, темпераметром) и с Божьими талантами. У кого-то они одни, у кого-то другие. У кого-то их больше, а у кого-то меньше.
Не в том суть.
Образ Божий и Его подобие, запечатлен в нас Духом Святым. А душа наша, как духовное и светлейшее Божье семя – и есть, то самое наидрагоценнейшее, которое и надо спасти для Царствия Небесного. И не только спасти, а и приумножить. С Божьим и человеческим наследием так мы и идём по жизни земной. Идём и похожие, и не похожие друг на друга. Люди вокруг нас все такие разные и все такие интересные. И, слава Богу за всё! Если бы мы были одинаковыми, в жизни бы нас ожидала великая депрессия и скукотища.
Как только я немного подрос и уверенней стал на ноги, приглядывать за мной почти прекратили [34]. Штанов мне, правда, не выдали. До штанов я ещё не дорос. Да и шут с ними, со штанами. Я знал, что штаны от меня всё равно не убегут. И что рано или поздно придёт время, когда вместо длинной и домотканой рубахи я одену штаны. Родители и бабушка, мне выдали гораздо большее, чем можно было от них ожидать.
Они мне подарили свободу.
Почувствовав себя вольным и свободным человеком, я, как тот желторотый птенец, с удовольствием покинул отчий дом и целыми днями пропадал на улице, из конца в конец, слоняясь без дела по хутору и порой, забывая о времени, и хлебе насущном. Неуёмная энергия из меня била ключом. Тяга к жизни, а пуще того, тяга к познаниям переполнили все мои чувства и заполонили сознание. Мир для меня открывался интереснейший. И он меня так захватил, что от его познавания я не только охмелел, но и совершенно в нём потерялся и вскоре запутался. Поводырей рядом и близко не стояло, поэтому мои первые познавательные шаги оказались не в том направлении [35]. Наихудшее и наигреховное, кажется всегда привлекательней и интересней. Вот его я, первым делом и познал. Познавал. И, слава Богу, что не только его!
На лужку, что у нашего погреба поразил меня мир насекомых. А у заболоченного и высыхающего рядом с лужком озерка захватил мир головастиков, стрекоз и лягушек. Я часами мог смотреть на снующих под ногами серьёзных и таких деловитых муравьёв. На бабочек, пчёл и шмелей. Особенно мне нравились муравьи и шмели. Если муравьи привлекали внимание своей массовостью и поразительной организованностью, то шмелей я любил за мощное гудение и ещё за загадочные дырки у погреба, куда они, то и дело, залетали и потом вылетали. Ни муравьёв, ни шмелей я совсем не боялся. И мне хотелось подружиться с ними точно так же, как я зимой подружился с телёнком и поросёнком.
Лягушки же и головастики вызывали у меня ещё больший интерес, чем насекомые. Особенно после тёплого летнего дождика, когда их в озерке собиралось столько, что ни глаз, ни ушей не оторвать. Я осторожно подходил к разлившемуся после дождичка озерку и с восторгом замирал от увиденной подводной картины. В чистой воде мне открывалось удивительное земноводное царство. Что вы! Просто так стоять и без всякого участия наблюдать с бережка за подводным миром я не мог. Мне этого было недостаточно.
Любопытная страсть легко побеждала дозволенную умеренность. Без страха [36] и оглядки назад, я входил в тёплую воду. Опускал руки до дна. Нащупывал и тут же вылавливал жирных головастиков, а иногда и зелёных, и не менее жирных лягушек. Головастиков я отпускал в воду [37]. А лягушек нет. С лягушками дело обстояло гораздо серьёзнее. С ними я вылазил на берег. И крепко держа в обеих руках, ходил с ними после по хутору, пока кто-нибудь из хуторян или случайных прохожих, мой улов не отнимал и не отпускал его на волю. Такая незаконная, а главное обидная экспроприация доводила меня до горьких слёз. И если взрослый человек не отводил меня сразу домой, то я тут же бежал к озерку за новыми лягушками.
Не знаю, может быть, лягушкам нравились мои руки или здесь присутствовало что-то другое (и совсем не мистическое), но сами они никогда не старались выпрыгнуть и освободиться. Называл я лягушек «тютями» и из-за них со мной боялись водиться и дружить мои старшие двоюродные сёстры. Они почему-то очень боялись лягушек и всегда с визгом убегали от меня, увидев в руках земноводных. За такое дружеское отношение к лягушкам мне часто доставалось от родных и от бабушки [38].
В моих глазах и сознании мир постепенно расширялся и познавался.
Лестница у дверей в сенцах стояла всё там же. Она соблазняла и тянула на потолок. Мир, миром и улица, улицей, а без исследования хатного потолка, какой же из меня следопыт и познаватель? Я долго всё примерялся к лестничным пролётам. Подходил к ним и так и этак. И вот, наконец-то, решился рискнуть. О последствиях я не думал. Мне казалось, что загадочный и притягательный мир потолка стоит того, чтобы ни о чём больше не думать. Высота, всё-таки…
И вот, однажды, погожим летним утром, когда все домашние давно ушли на работу. Отец с матерью в колхоз, а бабушка на огород. Я и полез на мечту моих желаний - на потолок. Первые два проёма оказались уже остальных. И преодолел я их на одном дыхании. Дальше лестничные проёмы пошли значительно шире, и подъём вверх несколько замедлился. Однако на меня уже снизошёл азарт верхолаза, поэтому отступать назад я не собирался. После долгих усилий остались позади и эти пролёты.
И вот он долгожданный потолок!
Кроме пыли и непривычной темноты, здесь царило паутинное царство вперемешку с тёрпким запахом прошлогоднего сена. Я отполз от опасного края и зажмурил глаза. А когда их открыл, то темнота показалась мне не такой уж и тёмной. Немного посидев и почти отдышавшись, я принялся за исследование. И чего я здесь только не нашёл! Первым мне попался под руку ткацкий станок. Что это ткацкий станок, а не что-то другое, я понял сразу же. У соседей видел точно такой. И даже видел, как на нём ткали цветную дорожку. Потом я наткнулся на старую прялку. Прялка поломана, потому она и лежала на потолке [39]. Дальше я нашёл красивый деревянный гребешок для расчёсывания овечьей шерсти [40]. И этот гребешок мне тоже известен. С его помощью получалась мягкая и пушистая шерсть. Шерсть ту сучили на прялке, после чего образовывались нитки. Нитки сматывали в клубки, из которых бабушка и мама плели потом варежки и носки.
Самое же важное, что я нашёл на потолке (нашёл в самом дальнем углу), это толстую и тяжёлую книгу с тиснёным крестом на обложке. Открывать её я не стал. Всё равно ничего бы не увидел. Я и крест тот нащупал всё больше руками. Протерев книгу подолом рубахи и как самую драгоценную находку, прижав её к своему тощему животу, я отполз с нею на старую овчинную кожу, угрелся на ней и крепко же сразу заснул. Тяжёлый подъём, удивительные открытия и переживания сморили меня надолго.
Я спал с книгой на потолке и, конечно же, не слышал, как приехал с работы отец. И пришла мать на обед. Как с огорода вернулась бабушка. Они кинулись меня искать. Стали звать и громко выкрикивать моё имя на улице. А я всё не откликаюсь, и меня всё нет и нет. Родные от страха так переполошились, что на ноги подняли весь хутор. Стали смотреть по колодцам. Не свалился ли я туда. И ещё долго бы, наверное, искали, если бы не мой родной дядюшка Алексей [41].
Он-то и нашёл меня на потолке.
И полусонного, с толстенной книгой в обнимку, снял и опустил на грешную землю. Книгу я, по дядюшкиному совету, тут же припрятал в закром с зерном. Она потом мне с лихвой компенсировала и отцовскую порку, и материнские слёзы, и бабушкины причитания, и упрёки. Всё это я, хотя и с обильными слезами, но вытерпел. Вытерпел, в ожидании открытия книги с таким красивым и притягательным крестом на обложке. Дядюшка Алексей, когда ставил меня на землю, по секрету шепнул на ушко, что книга эта дедушки Афанасия и что она не простая, а свято - церковная [42].
Значит, запретная.
Вот это здорово! Дедушкина! Да ещё и запретная! Всё запретное, это по мне. Запретное всегда интереснее. Это-то я уже вполне осознал.
Потому и к частым поркам уже малость привык.
На другой же день я залез в закром. Нашёл в зерне припрятанную заветную книгу. И с вожделением первооткрывателя потянул вверх за обложку. Обложка легко поддалась, открывая моему страстному взору первые страницы. Раньше мне уже приходилось листать не запретные книги. Но куда им до запретной и свято-церковной! Тут и бумага другая, и буквы совсем не такие [43]. Да и запах чуется не тот. Этот намного приятней и слаще. Листы пахнут мёдом и воском.
Осторожно переворачивая одну страницу за другой, я дошёл до первой картинки. И от невиданного доселе великолепия, сразу же обомлел. На цветной картинке, в голубом небе парили белые кучевые облака, на которых сидели и стояли красивые люди с крыльями. В увиденном чуде меня поразили три вещи. То, что красивые люди с крыльями стоят и сидят на облаках, и почему-то не падают на землю. Поразили их крылья. Я ещё повернул голову за плечо и посмотрел, а не растут ли и у меня точно такие же крылья. Глазами я ничего подобного не увидел. Однако же, для пущей верности, пощупал спину ещё и рукой. Вначале правой, а потом левой. Жаль. На спине, на растущие крылья, не оказалось даже намёка.
Почему так?
Вот этот вопрос – третье, что меня так поразило.
В книге имелись и другие, и тоже очень интересные картинки. Однако первая картинка больше остальных почему-то запомнилась. И она долго мне не давала покоя. Я к ней, то и дело возвращался. И всё смотрел, и смотрел. Каждый день, несколько недель кряду, я подолгу проводил время в закроме, глядя на цветную картинку и все, пытаясь ответить на мучившие меня вопросы. А потом, к моему несчастью, книга взяла и исчезла. Перерыл я весь закром. Но тщетно.
Книгу я так и не нашёл.
Куда она подевалась, не знаю и до сей поры [44].
В летнее время меня очень сильно тянуло на речку. Хотелось сходить туда вместе со старшими хуторскими ребятами. Никаких родительских запретов на передвижение у меня не имелось. И первое время, я не ходил на речку лишь только потому, что до неё бы я не дошёл. Когда же подрос, тогда речка стала для меня [45] основным местом обитания и дополнительного прокорма.
Плавать меня научили в первый же день. Старшие ребята, взяв за руки, за ноги, раскачали на берегу и на счёт раз, два, три забросили подальше от берега. Хочешь, тони, а хочешь, плыви. Как ни странно, с Божьей помощью, я выбрал второе [46].
Там же, на нашей речке, освоил я и рыбалку. В Донецкой Сеймице тогда нерестилось и разводилось много различной рыбы. От зеркального карпа и до всем известного пескаря [47]. Попадались старым рыболовам и усатые сомы. Редко, но попадались. А раков в речке водилось столько, что не обходилось и дня, чтобы кто-нибудь из нас на них не наступал. Раков мы налавливали полные вёдра. А после, в вёдрах же и варили на берегу. Что может быть вкуснее варёного рака? Разве, что речной налим [48].
Любезному читателю, недоумевающему по поводу моего полубеспризорного детства, охотно поясню нижеследующее.
Дело в том, что воспитанием своих детей [49] колхозники почти никогда не занимались. К примеру, мой начальственный отец обращал на меня внимание только тогда, когда меня уже надо было наказывать, то есть пороть. Других мер наказания [50] с отцовской стороны ко мне не применялось. И это понятно. Нашим родителям было не до нас. Каторжный труд, поневоле отодвигал детей на второй [51] план. Поэтому и воспитывала нас не столько родительская любовь и опека, сколько, не до конца ещё забытая, крестьянская традиция, труд и улица. В бытность мою малым и несмышлёным дитём, так оно и было на самом деле.
Социальное [52] бесправие колхозника низвергло его в ужасную, бездуховную пропасть. Низвергло до уровня обыкновенного советского раба [53]. Антихристианская сущность советской системы не могла быть на стороне мелкого колхозного собственника, как не могла быть и вообще, на стороне трудового русского человека. Она закрепостила человека на земле так, что ему бедному нельзя было ни голову поднять и ни слова молвить. Система строжайшим образом следила за своей прочностью.
И не приведи Господь, если кто-то из строптивых колхозников свою голову поднимал или там изрекал какое крамольное слово [54]. Такого храбреца (или безумца) ожидала каторга уже иная и куда более страшная. Гулаговская каторга. Где часто храбрую голову отсекали долой или же крамольный рот затыкали свинцом.
Люди работали в колхозе весь световой день. Работали без праздничных и выходных дней. Колхозник вставал в четыре-пять часов утра. Быстро завтракал, чем Бог послал и спешил на работу. С работы возвращался уже в тёмное время и вместо отдыха, сразу же брался за неотложные работы по домашнему хозяйству. И так изо дня в день и из года в год. Поэтому воспитывать детей ему было всегда некогда. На это не хватало ни времени, ни сил. Отсюда наше и столь вольное деревенское детство.
Даже если сельский человек серьёзно заболевал, то предупреждённые системой местные врачи, справку об освобождении от тяжёлых работ ему не давали. За такой справкой надо было ехать очень больному человеку в город и покупать её там за большие деньги или дефицитные продукты – яйца, масло, парное мясо. На моей памяти и к людям уже лежащим на смертном одре приезжали колхозные начальники с милиционером, дабы и такого человека выгнать на работу.
Это с одной стороны.
С другой же стороны, здоровый сельский человек и сам рвался на колхозную работу, так как без пресловутых колхозных трудодней, с одного своего огорода, он не мог прокормить семью. Хотя и не всегда, но, в относительно урожайные годы, на трудодни выдавали в колхозе зерно, солому и какие-то копейки денег, которых едва хватало на фуфайку или кирзовые сапоги [55].
Крестьянский труд делал нас сильными и выносливыми. К нему мы приучались с раннего детства. Ничего не поделаешь, скудная жизнь заставляла начинать рано трудиться. Да нам и самим хотелось помочь своим родным и близким, и внести свою посильную, пусть и пока ещё детскую лепту, в общую семейную копилку. Часто копилку слёз и разочарований.
И нам не надо было лишний раз напоминать о тяжёлой колхозной жизни. Она и так вся проходила на наших глазах. Родительские стоны и неприглядные разговоры о ней навсегда запечатлевались в нашей памяти. Поэтому, воля волей и речка речкой, а без домашней работы обходиться было нельзя. Сначала работа, а потом уже вольности и всё остальное. Пригляд за младшим братиком или сестрёнкой, пастушество и помощь при уборке огородных овощей, всё это с ранних лет ложилось на наши детские плечи. И по мере взросления, ноша эта только лишь возрастала и увеличивалась.
Остаточная богобоязненность, страх Божьего наказания, а так, пуще того, людское порицание и осуждение, не позволяли колхозникам переступать через нравственные и традиционные запретительные кордоны. Как немощные и грешные люди, жили и на моих родных хуторах не без греха. Случалось всякое, однако уж слишком неприглядных излишеств мои родственники и земляки не допускали.
Самогон пили и ругались матерно. Позднее и воровали в колхозе. Всё это было и на моих глазах. Да и меня зацепило грешного. Но человечьего обличья и образа Божьего тогда ещё особо не порастрясли и не потеряли. Православные крестики многие на персех носили, и правильно креститься, ещё не разучились. О Вере, об Исповедничестве речь не идёт. Кто горячо веровал и исповедовал не понарошку, а по-настоящему, тот находился уже давно в местах не земных или не столь отдалённых. Бога почитали, скорее, по традиционной инерции, нежели по душе и сердцу. Говорю об общем впечатлении, да и то, впечатлении несмышлёном и детском. И прости меня, Господи, если по немощи своей я в том ошибаюсь!
В царское время голодом крестьян не морили. Да и немыслимо было такое. В засушливые или неурожайные годы крестьянин один на один с бедой никогда не оставался. Божья милость и человеческое христианское милосердие снисходили до крестьянского горя. Не знаю, сколько людей уморили советы голодом в начале тридцатых годов [56], как-то эта информация не зацепилась и прошла мимо моей памяти, а вот в сорок шестом или сорок седьмом году на нашем хуторе от голода умер один человек. Жил он в семье. И звали его Антон. Но ни семья, и никто из хуторян так и не смогли ему помочь [57]. Почему? Да потому, что сами ходили от голода пухлыми и только чудом Божьим остались живы на земле [58].
Электрического света в нашей старой хате я так и не дождался. Да и не слышал о нём ничего. Летом мы жили без искусственного освещения, а зимой и в остальные короткие световые дни, освещались керосиновой лампой. Керосин в магазине дорогой, поэтому особенно не рассвечивались. Экономили [59]. «Лысая» [60] лампочка под низким потолком хаты не висела. Это верно. А вот «радиоточка» на стенке была. В пять часов утра [61] она будила меня своим устрашающим гимном. Гимн исполнял роль петуха или будильника. По нему отец, мать и бабушка поднимались на работу. После гимна радио выключали. Выключали не из экономии, а из-за советской пропагандистской противности, противной до приторности. Кому-то, может быть, жить при советах было и хорошо, а нам таки нет. Кому хорошо, тот пусть и слушает.
Правда, когда стали запускать советские спутники, и когда полетел в космос Гагарин, тогда радио выключать перестали. Всё ж таки звёзды притягивали. И слушать новости об успешном освоении космического пространства было чрезвычайно интересно. Голос еврея-диктора, с душетрепещущим началом: «Внимание, внимание! Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза…» [62], притягивал наши уши и души не хуже колдовского камлания-заклинания.
Но всё это случилось значительно позднее.
А пока же я рос и помаленьку набирался ума и разума [63]. Игрушек мне не покупали. Конфет и пряников тоже. А настоящие плисовые штаны бабушка пошила ближе к зиме. Первая осмысленная зима показалась мне не менее интереснее лета.
И объяснялось это просто.
Ещё весной к нашему двору [64] прибилась большая и лохматая собачка. Назвали мы её Дамкой. Собачка быстро освоилась и так со мной подружилась, что не отходила от меня ни на шаг. Дядюшка Алексей, ещё весной, построил ей собачий домик. А когда мы дожили до зимы, и когда уже намело много снега, то приехал трактор-бульдозер и расчистил нашу хуторскую дорогу. После бульдозерной чистки, дорога получилась похожей на длинный, предлинный желоб.
В это время дядюшка и придумал мне удивительную и ни на что не похожую игру. Он пошил на Дамку крепкую сбрую. Потом показал мне, как надо правильно запрягать её в лёгкие самодельные санки. Помог с этим делом и, усадив на санки, тронул собачку вперёд. Дамка, казалось, поняла, что от неё требуется и тут же, сходу, взяла в свой собачий карьер. Деваться с дороги ей было некуда. По обе стороны высятся снежные стены от бульдозера. Она лихо промчала меня в конец хутора. Там я её повернул обратно, и Дамка легко домчала меня до родимой хаты. Этот манёвр мы повторили несколько раз. Вначале я не видел, что дядюшка и вышедшие из хат люди, с интересом наблюдают за нашим катанием.
А когда увидел, то кататься стало ещё интересней.
С Дамкой мы быстро освоили ездовую науку. После первого пробного дня, теперь уже каждый день, я запрягал свою любимую Дамку и долго катался на ней по скользкой дороге. Зимой наше питание улучшалось. Дядюшка Алексей нас подкармливал дичью. Зайцев в округе водилось столько, что их следы петляли везде: в саду, в огороде и даже во дворе. На зайцев дядюшка охотился. И двух-трёх легко добывал. Почти каждую неделю зайчатина появлялась на нашем столе. Понятное дело, что все заячьи потроха и кости доставались Дамке. Перепадало ей от моих щедрот и когда резали, какую скотинку. Обратно же, хлеба и молока вволю. Нет, мы с Дамкой не бедствовали. Домик я ей утеплил. Положил на пол старую, престарую фуфайку, а с боков и до самой крыши [65] нагрёб пушистого снега.
Той первой зимой, не случись дядюшкиного изобретения, мне бы так и пришлось сидеть дома, и изредка гулять во дворе. По глубокому снегу и крепкому морозу далеко от двора не уйдёшь. А на собачьей упряжке я мог легко и с огромным удовольствием [66], совершать дальние прогулки.
После старого Нового года в хату внесли новорожденного телёнка и поросёнка. Как и в прошлый раз, с ними я легко подружился. И теперь уже интересное время делилось между Дамкой и моими новыми друзьями. Ближе к весне Дамка неожиданно пропала. Я её везде искал и не находил. Слёз вылилось много. Каждое утро я выходил из хаты и в надежде на возвращение своей лохматой подруги, всё звал: «Дамка! Дамка!». Звал до тех пор, пока бабушка не затаскивала меня обратно в тепло. Позже старшие меня убедили, что Дамка убежала к старому собачьему другу и что теперь ей с ним радостно и хорошо [67]. Как будто со мной ей было так плохо.
И всё же я успокоился, и перестал звать её по утрам.
Следующие времена года, да и сами года, особым разнообразием не отличались. Рос я крепким и подвижным ребёнком, постепенно приучаясь, вместе с младшим братом и бабушкой, делить родительские радости и печали. Как и в каждой семье, радостей и печалей хватало.
В одну из холодных зим отец уехал на лесозаготовки. И его отсутствие мне показалось вечностью. Потом была радость его возвращения. Строительство нового дома. И полёт человека в космос. После полёта Гагарина, мы все стали играть в лётчиков и космонавтов. И, конечно же, хотели стать непременными участниками следующих космических экспедиций - на Луну там или на Марс. Нам казалось, что раз человечество вышло в космос, то оттуда оно уже никогда не уйдёт. И что марсовские песенные садоводы [68] так разойдутся в области инопланетного садоводства, что не ограничатся одной лишь только красной планетой. Мы боялись из-за них не успеть, поэтому, со всей силы и старались расти, ещё не умея ни читать, ни писать.
Полёт Гагарина усилил неверие в Бога. Ушлые люди, всё чаще и чаще, стали поговаривать о Божьем отсутствии. В своём грехе они ссылались, как раз, на Гагарина, с усмешкой талдыча о том, что, мол, Гагарин летал высоко и в космосе Бога не видел. Эти люди не понимали, да и не желали понять, что не космическая ракета приближает нас к Господу, а Вера и исполнение заповедей Его. Всё остальное не столь важно. В том числе, где [69] и на чём ты передвигаешься по этому тварному миру. Идёшь ли пешком по земле. Плывёшь ли на корабле по морю. Или летишь в космическом корабле по необъятной Вселенной.
Не знаю, как космические полёты воспринимались в городе, а вот деревенские люди просто ополоумели от этих полётов. Только и разговоров было, что о полётах. Внеземным энтузиазмом [70] радио заразило всех. И стар, и млад навострились вслед за Гагариным.
Позови нас и завтра же, полетим хоть к сатане на кулички. И ничего удивительного.
Родители заразились от радио, а мы от родителей. Ну, а советское радио с евреем-диктором у микрофона – понятное дело от кого…
И всё же, нет, нет, да и проскакивали мимо моих ушей слова скептических сомнений, а то и ядрёных ругательств. Их щедро отпускали по нашему адресу, отживающие свой век старики. Теперь-то мне понятно, что отпускали они не просто так, а для уврачевания (торможения) всеобщего психоза. Их было двое. Одного звали - дедушка Трофим, а другого дедушка - Матвей. Жили они на разных концах хутора и мне казались столетними. И Трофим, и Матвей всегда что-то говорили поучительное или кого-то нещадно ругали. К стариковскому полуюродству хуторяне уже привыкли. И к их словам почти никто не прислушивался. И понятно, почему. Времена-то и люди другие. Ругаются? Ну и пусть себе ругаются. Да и ругали-то они не сами космические полёты, а всё больше товарища Хрущёва вместе с товарищем Гагариным.
Помню, в те ранние детские годы меня всегда тянуло к взрослым. И не только к родным или близким. Тянуло ко всем. Знакомым и незнакомым. К трезвым и не очень. К сильно пьяным только не тянуло. Мир взрослых людей казался мне значительно интереснее, и гораздо шире и выше детского мира. Ещё бы. Взрослым позволялось многое, а детям [71] только малое. И поэтому тоже, мне хотелось побыстрее вырасти, и стать таким же, как и они. Особенно меня притягивали работающие люди. А когда они отдыхали, я любил слушать их рассказы о колхозной или домашней работе, о военной или довоенной жизни. От этих рассказов мои уши никогда не уставали и я мог слушать их сколько угодно долго [72].
Однажды, мне удалось незаметно подойти к нашим хуторским мужикам и подслушать [73] их неторопливый разговор о довоенной судьбе двух соседей-колхозников [74]. Хуторяне сидели на не ошкуренных сосновых брёвнах, смачно курили самосад и между цигарными затяжками, вели тихую беседу об этих несчастных людях. Сейчас уже не помню, как их и звали. Я подоспел тогда вовремя. Разговор только начинался, поэтому я не успел ничего пропустить. Краткое повествование началось с того момента, когда морозным ранним утром два соседа, вместе с другими, такими же, как и они, колхозниками, пришли в контору за нарядом. Один из них, увидев на промёрзшей стенке, подмоченный инеем, газетный портрет Сталина, не удержался и негромко сказал приятелю.
- Смотри-ка, а Сталин-то подмок.
И всё. Больше он ничего не добавил. Ни слова, ни полслова. А приятель тот и вовсе промолчал. Тем не менее, и произнесённых вслух слов (для советского беззакония) оказалось достаточно. Кто-то донёс, куда следует и вечером их обоих забрала НКВД. В районе соседи долго не задержались. Через какое-то время, оба оказались в застенках Курского областного НКВД. И просидели там, на воде и тюремной баланде, без малого, почти год. Их судьба сложилась бы ещё трагичней и намного печальней [75], если бы не земляк-следователь, случайно увидевший знакомые фамилии в одном из расстрельных списков. Каким-то чудом, ему и удалось вытащить обоих приятелей из страшных застенков НКВД.
Теперь трудно сказать, почему хуторских мужиков увлекла эта тема. То ли на душе наболело, то ли просто выпало такое настроение. В жизни случается всякое. Да и не в этом суть. Для меня интересно другое. Они так раззадорились, что на одном воспоминании о соседях-колхозниках не остановились. Взрослые дяди стали наперебой перечислять всех известных им в округе людей, так или иначе, пострадавших от советской власти. Некоторые из них уже были знакомы и мне. Особенно меня удивило, что и наша родственница из соседнего хутора – бабушка Аня – тоже три года провела в исправительном лагере, за ржаные колоски [76].
А я и не знал.
Задним числом, все мы часто умны. Так же и со мной. Сейчас-то понятно, что в сталинские времена до такого откровенного мужицкого разговора дело бы не дошло. Что вы! Не дай Бог таких откровений. В сталинские времена все опасались друг друга. И держали свои рты на замке. Даже с родными и близкими. Но Хрущёв не Сталин. При Хрущёве уже так не боялись, поэтому языки у простого народа и развязались. И ещё бы им не развязаться после такого молчания.
Конечно, от советского страха мы не избавились. Об этом можно только мечтать. Да и за одно-два поколения животного страха никогда не изжить. И всё же, жить стало заметно вольней. Однако здесь следует оговориться и напомнить о том, что многое в жизни познаётся в сравнении. И относительная хрущёвская вольность тоже сравнительна. Грех думать о ней широко. Сам прошёл через это, поэтому с чистой совестью и говорю, что советскую власть хуторяне побаивались всегда.
И при Хрущёве и даже при Брежневе…
Судите сами.
Когда на нашем хуторе появлялся человек в милицейской фуражке [77], жизнь вокруг на версту замирала. Мне казалось, что при его появлении время останавливается, приоткрывая двери в вечность. Свет в очах меркнет. И в душе холодно. Всё на место становилось только тогда, когда этот страшный человек исчезал с нашего горизонта. Молва о его появлении прокатывалась по всему околотку и шла за ним следом от начала и до конца. И стар и млад едва не крестились на прах с милицейских сапог. А со всех сторон с придыханием слышалось: «Слава Богу, что на этот раз пронесло [78]».
Только далеко не всегда проносило. Колхозная жизнь, она такая. И, как известно, не без греха. К беззащитному и забитому работой человеку всегда легко придраться. То к самогоночке, то к беспроцентной соломке, то ещё к чему. Был бы человек, а повод, он завсегда найдётся.
Ввалится такой краснофуражечник без спросу в хату и тут же начинает, стращая, принюхиваться. А то и в наглую выискивать компромат. Попробуй, выгони такого зрелого «фрукта» из хаты. Даже и не думай! Он тебя так выгонит, что мало потом не покажется. Значит, что надо бедному колхознику делать? Понятное дело, что. Надо поить и кормить властную держиморду. Поить-то ещё, куда ни шло [79], а вот с кормёжкой похуже. От детей ведь отрывать надо. Ничего. Сдюживали. Поили. Кормили. И отрывали от детей, куда же денешься.
Однажды я остался в старой хате один [80]. Случилось это, когда мне исполнилось годиков пять или шесть и по хуторским меркам, я считался уже вполне самостоятельным и едва ли не сложившимся человеком. Этаким маленьким мужичком. Родители вместе с младшим братом и бабушкой на ночь куда-то уехали [81]. Уехали не сразу, а после ответов на вопросы. Что мне там кушать? И как вести себя одному? [82] Объяснив, что и как, сели в сани и куда-то уехали.
Ничего особенного не произошло. Рос я не из боязливого десятка, так что отъезду только обрадовался. От дополнительной свободы, кто же отказывается? На улице уже смеркалось. И как только лошадь с родными отъехала от старой хаты, я тут же почувствовал себя полноправным хозяином и приступил к тем обязанностям, которых мне никто не поручал. Первым делом, я надёргал из копны сена и положил его вволю бурёнке. Молоко-то, чай, сена дороже [83]. Из закрома, не жалеючи, насыпал курам зерна. Глядишь и куры занесутся сильнее. И покормил мукой поросёнка, щедро рассыпая её по всему корыту. После всех этих хозяйских хлопот, удовлетворённый от честно исполненного долга, я зашёл в хату и закрыл дверь на крючок. Мои руки тут же зачесались зажечь керосиновую лампу. Но спички родители надёжно припрятали. Сходу я их не нашёл. И это мне не понравилось. Днём бы я спички нашёл [84]. Но в потёмках искать не хотелось. Поэтому ужинать пришлось в темноте. Не велика беда. Что при свете, что в темноте – разница небольшая. Всё равно, мимо рта не пронесёшь.
После ужина, я немного поколупал пальцем лёд на оконном стекле. Пару раз попрыгал на скамейке возле печки. Потом мне стало скучно, да и зеваться что-то начало. Не долго думая, я разделся, залез под бабушкино одеяло и скоро заснул. Обычно мой сон длился до самого утра. И когда я проснулся, то вначале и подумал, что уже позднее утро. И как не подумать, когда в хате светло. Позднее мне этот свет показался необычайным. Ни утром, ни днём такого света я раньше не видел.
Открыв пошире глаза, напротив икон у окна, я увидел совсем невысокого человека в белой одежде. Человек стоял у икон, не обращая на меня никакого внимания. Стоял он прямо, в белоснежной рубахе до пола и ничего, как будто не делал. Просто стоял. Спиной ко мне. И всё [85]. Полупал я полупал своими несмышлёными глазами. Потом их закрыл и обратно заснул.
Родненькие мои!
Впечатлений от детских воспоминаний осталось множество. Они ещё не совсем поистёрлись в памяти. А если, что интересное запамятовалось, по немощи человеческой, Бог даст, вспомню и допишу. Следующая глава моя посвящена советской школе. С самого раннего детства, она была на слуху и о ней мне всё время напоминали. Скажу без лукавства, учиться в школу тянуло. И те из детей, кто уже сподобился первого класса Нижне-Гусынской начальной школы, казались мне намного авторитетнее и значительнее таких вот, как я. Они уже научились писать и читать. Их умение и знания превосходили мои. Я это осознавал и печалился. Оставаться неграмотным не хотелось. Жажда знаний меня потихоньку сушила и требовала утолений.
И вот настал тот день, когда двери начальной школы, наконец, открылись и передо мной. Случилось это событие осенью 1963 года.
ГЛАВА ВТОРАЯ. Школа
«…Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он всё-таки не постигнет этого; и если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого».
(Книга Екклесиаста, или Проповедника. 8. 16).
От моего родимого хутора Нижне-Гусынская начальная школа отстояла в каких-то полутора-двух километрах. Своё название она получила от одноимённого хуторского местечка, протянувшегося от Журавского моста и до разрушенной ветряной мельницы. Советы открыли её не сразу, а с утверждением власти на хуторах. И случилось это, где-то, в конце двадцатых или начале тридцатых годов. С тех пор она и работала, посильно обучая начальной грамоте чумазых крестьянских, а потом и колхозных детей.
Само школьное здание находилось на пустыре, что в двухстах метрах от бригадной кузницы и небольшого колхозного поля. Если смотреть прямо с пустыря, то за кузницей и полем хорошо видно полуразрушенную конюшню и две пустующих фермы. За ними располагалась тракторная база. И за базой уже тянулись бескрайние колхозные поля. Школьное здание, хотя и деревянное, но, по месту и времени, представляло собой величественное строение, со стороны похожее на сказочный русский терем.
Через классы начальной школы прошли многие окрест живущие хуторяне, в том числе и мои родные – отец, дядюшки с тётушками и даже бабушка Анастасия. Бабушка Анастасия прошла обучение при всеобщем ликбезе, правда, так и, оставшись на всю жизнь неграмотной [86]. Школа советская, пусть и начальная, окромя начальной грамоты, грешила ещё и безбожием.
Вечно так продолжаться не могло. И…
Года за два или за три до моего поступления, последовало Божье наказание. Неожиданно разверзлись небеса. Блеснула яркая молния. И школа моментально сгорела. Грома никто не слышал. Поэтому, кое-кто из людей перекрестился и в страхе Божьем забыл о космических полётах. По хуторам ещё прокатилась людская молва и вскоре такое воистину яркое и потрясшее душу событие, как говорят сегодня, всколыхнуло общественность. Резонанс от общественных колебаний докатился до районного, а то и областного начальства.
К тому времени враги народа уже отошли на второй план. А к Богу и Его молнии политическую статью не пришьёшь. Поэтому виновных в пожаре искать скрупулёзно не стали. Дело о происшествии органы потрясли, потрясли и вскоре тихо прикрыли. Высокое же начальство подсуетилось и без обычных проволочек, выделило деньги на постройку новой школы.
За одно лето, прямо рядом с пожарищем, её и построили [87].
Как бы там ни было, но ту, сгоревшую школу я помню. В трескучий мороз, один из взрослых хуторян надо мной подшутил [88]. И в надежде разжиться на ёлке дармовыми конфетами, я и прикатил на самодельных лыжах в эту старую школу. Школа мне показалась большой и красивой. Особенно запомнилось богатое резное крыльцо. Запомнилось оно не столько богатой резьбой, сколько своей труднодоступностью. Долго мне не удавалось перелезть через его высокие ступеньки. Дяденьки-плотники сделали их, не примерив к моим детским ногам. От того и пришлось преодолевать препятствие с помощью рук, и на четвереньках.
От крыльца двигаться легче. Прочно став на ноги, я толкнул тяжёлую дверь и с трудом протиснулся в коридор. А из коридора уже легко ввалился в большую и светлую комнату с украшенной ёлкой посредине, множеством незнакомых ребят и несколькими взрослыми тётеньками и одним строгим дяденькой. Вначале они опешили от моего появления и долго меня молча рассматривали. Разглядывал их с интересом и я. Потом строгий дяденька не выдержал и громко спросил.
- Ты, кто такой?!
- Я, мальчик - Витя Балабанов, - ответил я, не задумываясь.
- Так, понятно. Ты, мальчик - Витя Балабанов, - повторил утвердительно дяденька. И тут же, он с упрёком спросил. – И зачем ты, мальчик - Витя Балабанов, сюда пришёл?
- Как, зачем? – обиделся я. - За конфетами.
- За конфетами, - словно не поверив моим словам, протяжно произнёс разговорчивый взрослый. – Кто же тебе сказал, что мы раздаём таким маленьким детям конфеты?
- Я не маленький. Я уже большой.
- Неужели? – уже смеющимися глазами опять не поверил мне дяденька.
Эти смеющиеся лучики в глазах я заметил. И ещё заметил улыбки на лицах тётенек и старших ребят. Кое-кого из них, я уже начал узнавать. Вон, Петька Виноходов стоит. А перед ним Любка Лысикова расселась. Откровенный смех надо мной не дал разглядеть всех знакомых получше. В душе закипала обида. И от пассивного лицезрения, я тут же перешёл в жёсткую атаку.
- А ты, кто такой? – спросил я взрослого человека.
- Я, учитель.
- Учитель, - уже тише повторил я следом. И тут только до меня стало доходить, что прикатил-то я не в магазин, а в самую, что ни на есть, настоящую школу.
- Да. Я учитель, - подтвердил свои слова дяденька.
- Значит и меня будешь учить? – спросил я на всякий случай.
- А, ты хочешь учиться?
- Не знаю, - пожав плечами, ответил я чистую правду. – А, они хотят? – указал я пальцем на Петьку и Любку.
- А мы их сейчас спросим. Ребята, вы хотите учиться? – обратился учитель ко всем.
- Да, - нестройным хором ответили мальчики и девочки.
Не помню, о чём мы там дальше с ним говорили. Обида моя прошла. И лёд недоверия в душе растаял. Вскоре, нас обступили незнакомые тётеньки и старшие ребята. Наперебой посыпались какие-то вопросы. Все стали о чём-то со мной заговаривать. Сюсюкаться и даже заискивать. От всеобщего внимания я растерялся и сник. Мне захотелось домой. Домой, так домой. Конфет в карман не насыпали. А дали Петьку в провожатые и вместе с ним выпроводили из школы.
На том и закончилось моё приключение.
Мороз и крыльцо – не помеха, да и с конфетами вышел не малый конфуз. Но это, беда, не беда. Я ни о чём не сожалел.
Зато новогоднюю ёлку увидел и познакомился с будущими учителями. И вот ещё память о старой школе осталась [89].
Новую школу построили уже без резного крыльца. На такое крыльцо и сказочную архитектуру денег начальство не нашло. Построили простенько, в виде скотского сарая. Правда, крышу накрыли не ржаною соломой, а шифером. Два коридора - холодный и тёплый, учительская и две классных комнаты с печным отоплением – вот и вся вам начальная школа. Учащиеся занимались в ней в две смены. Первый и второй класс, в первую, а старшие классы - третий и четвёртый, во вторую смену.
Директором начальной школы работал Матвей Данилович Жданов.
К моему стыду и удивлению, им оказался тот самый строгий дяденька, с которым я познакомился ещё в старой школе. Вместе с ним работали три учительницы. Фаина Максимовна, Полина Михайловна и Татьяна Кондратьевна. Все школьные учителя родились и выросли в наших местах, поэтому они прекрасно знали не только наших родителей, но и бабушек с дедушками [90].
Матвей Данилович Жданов, по всем хуторским околоткам и весям, слыл человеком мудрейшим. За человеческие достоинства его много раз хотели избрать председателем колхоза. И не только хотели, но и всегда очень долго упрашивали. Только он, по каким-то причинам, не соглашался [91]. Справедливости ради, надо отметить, что в мою школьную бытность, авторитет сельского школьного учителя находился на такой высоте, о которой сегодня нельзя и мечтать.
Авторитет же Матвея Даниловича был и вовсе непререкаем.
Как и многие хуторяне, он участвовал в советско-германской войне. И вернулся с неё в звании старшего лейтенанта [92], и с партийным билетом в кармане. Как я теперь понимаю, партиец из него получился не, ахти какой. Разве, что - числился только. А вот исполнял он порученное ему ответственное дело, уже не спустя рукава, а, как и надо, по чести и совести. Специального учительского образования Матвей Данилович не имел. До войны ему удалось закончить зоотехникум. Но поработать по полученной специальности так и не довелось. Сразу же, по окончании техникума, его направили в систему советского начального образования. И надо сказать, с этим направлением они не ошиблись. Живи Матвей Данилович человеком беспартийным, не грех бы мне написать, что учителем он был от Бога. А так…
Посудите, уж, сами.
Если же говорить об образовании и воспитании шире, то моё личное мнение здесь однозначно такое. Лучше православно-монастырского образования и воспитания нет, не было и быть не может [93]. За ним следует домашнее образование и воспитание [94]. И дальше, то образование и воспитание, которое даётся детям одним учителем. Советская начальная школа последним удачным примером, как раз и обладала. О ней и речь. Повторяю, только начальная школа! Восьмилетняя же, средняя школа и школа высшая такого очевидного преимущества, к сожалению, уже не имели [95].
Фаина Максимовна, Полина Михайловна и Татьяна Кондратьевна не достигли до директорского авторитета. Но и того, что у них имелся, им хватало с лихвой. Любая их просьба о помощи, по своему ли домашнему хозяйству или просьба другая, исполнялась хуторянами всегда незамедлительно, добротно и качественно. Учителя начальной школы учили, воспитывали и опекали детей хуторян. А хуторяне, в свою очередь, почтением, уважением и крестьянскими трудами, опекали школьных учителей.
Так было. И таково вступление. А теперь об обучении и обо всём остальном. Итак…
Господи, благослови!
Первого сентября, выше означенного года, я и поступил в первый класс Нижне-Гусынской начальной школы. От роду мне исполнилось семь лет восемь месяцев и десять дней. По школьным прикидкам, года выходили серьёзные. Поступил не один, а вместе с одиннадцатью своими погодками. Восемь мальчиков и четыре девочки. Итого, получается ровно двенадцать первоклассников.
К нашему поступлению новую школу уже успели обжить. Внутри пахло знакомой мне жизнью, пусть и не такой, как в старой хате или недавно построенном доме, но всё же пахло замечательно. По всей школе разносился книжный и чернильный дух, дух тетрадный и тот самый, русский и человеческий, который так не нравится всяческой нечистой силе.
Мне понравилось дышать этим воздухом.
Матвей Данилович отвёл нас в маленькую классную комнату. И рассадил за парты. Парт в классе десять. И они стоят в два ряда. В первом ряду семь парт и во втором ряду три. Девочек он посадил с девочками. А мальчиков с мальчиками. Девочки сели за парты первого ряда, напротив учительского стола. Им хватило первых двух парт. За ними, на третью парту, сели два мальчика. А остальные мальчики расселись за партами второго ряда.
Мне с Лёником Ждановым досталась последняя парта. Пусть и последняя, зато у печки. Значит, зимой не замёрзнем.
Так думалось мне [96].
Потом учитель нас всех перезнакомил [97]. Назвал себя. И приступил к занятиям.
Никто из нас не умел ни читать [98], ни писать, а считать мы умели только до десяти [99]. Не знаю, было ли от этого Матвею Даниловичу легче.
Скорее, да, чем, нет.
В сельской начальной школе [100] все общеобразовательные предметы в классе ведёт только один учитель. Если учитель знает и любит своё дело, то это всегда было большим плюсом. Матвей Данилович, не только знал и любил своё дело, он ещё был и великолепным воспитателем, и отличным детским психологом. Ничего не скажешь, повезло нам с нашим учителем [101].
Все мы желали учиться. Это верно. Разные же способности и таланты нашего желания не уменьшали. По способностям и талантам учитель никого не выделял. Конечно, у кого-то их было больше, а у кого-то и меньше. Сколько Бог дал, столько и есть. И тут уже ничего не поделаешь. Так было и так будет всегда [102]. Соль моей мысли в другом. Без оглядки на разного рода задатки, Матвею Даниловичу удалось наше пассивное желание учиться преобразовать в активный творческо-образовательный интерес [103]. И в этой педагогической удаче несомненная заслуга нашего первого учителя.
Из своего личного опыта мы хорошо знаем, что по жизни случается много разочарований. Без них на этом свете не проживёшь. И, как известно, начинаются они далеко не всегда со зрелого возраста. Детские разочарования часто приводят к необратимым последствиям. И вернуться, потом к необходимому жизненному моменту [104] бывает проблематично, а то и совсем невозможно.
Написал я всё это для того, чтобы лишний раз подчеркнуть и нагляднее вам показать, что привитый к обучению интерес, всё же, гораздо весомей и намного значительней нашего простого желания к обучению. И что он-то и явился той самой преградой к моему первому разочарованию [105]. На протяжении четырёх лет Матвею Даниловичу удавалось поддерживать мой интерес и тягу к знаниям. И скажу вам, что это дело совсем не такое простое. Надо обладать воистину многими талантами, чтобы, столь длительное время, тяга к знаниям и огонёк заинтересованности в детских глазах не мерк и не угасал.
Редко кто из учителей обладает такими талантами…
За учительским столом, прямо посредине стены, висит коричневая школьная доска. Внизу на её приделе лежат мокрая тряпка и белые меловые кусочки. А верху, над доской и по всем комнатным стенкам, висят плакаты. Плакатов много, их и не сосчитать. Перед доской стоят ещё большие счёты. Правее печка. Вот и весь наш классный интерьер. Об учительском столе и партах я уже говорил. Забыл упомянуть об учительском стуле и окнах. Стул стоит, где ему и положено. А окон двое. Они слева от меня. Окна большие и выходят на широкий пустырь. На пустыре ученики четвёртого класса играют в лапту [106].
На улице весна…
А у нас урок арифметики. Арифметику я очень люблю, поэтому и стараюсь не отвлекаться. Хотя и не только поэтому. На игру тоже хочется посмотреть. Шурик тётин Марусин, как раз подаёт. Шурик сильный игрок. Даже посильнее Кольки Цыгулёва. Колька Цыгулёв тот всё больше хвастается. Как будто мы слепые и не видим, кто лучший.
Все примеры я уже давно решил. Примеры лёгкие и их просто решать. Теперь вот мозгую над интересной задачкой. Её обязательно надо решить. Матвея Даниловича подводить нельзя. Это я понимаю. Он сегодня не один, а вместе с инспектором из какого-то роно [107]. Инспектор - строгий дядька и он мне не понравился. Вернее, больше не понравилось, как Матвей Данилович перед ним заискивает.
Как же, вышестоящий начальник…
Лапта меня здорово отвлекает и не даёт сосредоточиться. Если Любка Волошенко не решит, тогда мы все перед инспектором опозоримся. И учителя своего опозорим. Зря, что ли, штаны протираем на партах. Второй год уже пошёл, как по ним ёрзаем. За первый класс научились всему. Теперь вот дальше стараемся. Любка – зубрилка. Зубрит и зубрит. Всё зазубривает наизусть. Она так боится родного отца, что прямо дрожит вся. И мне её очень жалко. Отец у неё такой, что только попробуй, принеси домой кроме пятёрки что-нибудь другое. Сразу хватается за ремень. Даже четвёрки ему мало. Нет. Любка это задание не решит. Самому надо кумекать. Если бы не эта лапта, тогда бы, конечно. А так, попробуй тут реши.
Наконец, оторвавшись от интересной игры, я сосредоточиваюсь на задачке и вскоре её быстро решаю. Теперь можно смотреть и на лапту. От пустыря в класс проникает слабое эхо игры. Если прислушаться, то слышны азартные крики и смех. Но вдоволь насмотреться на игру мне опять не дают. Тогда задачка, а теперь Матвей Данилович, заметив мой посторонний интерес, спрашивает.
- Балабанов, ты уже всё решил?
Оторвавшись от окна, я киваю вначале головой, а потом, спохватившись, отвечаю, как надо.
- Всё.
Матвей Данилович и строгий инспектор из роно, неожиданно встают со стульев и подходят к моей парте. Оба заглядывают в тетрадку. Потом удовлетворённо смотрят друг на друга. Отходят и садятся обратно на свои места. Но сидят они почему-то недолго.
Вскоре оба поднимаются.
И инспектор спрашивает.
- Ребятки, кто ещё решил задачку?
Все молчат. Урок-то ещё не кончился. Может Любка и решит задачку. Но, куда там. Инспектор не даёт никому закончить.
- Теперь хочу вам, ребятки, задать вот какую задачку, - потерев рукой подбородок, говорит нам инспектор. – Только не спешите с ответом. Хорошо?
Заинтригованные мы все, как рыбы молчим, а инспектор продолжает урок.
- Задачка, ребятки, вот какая. Случилось это в войну. Из одного нашего города надо было срочно вывезти секретный пакет. К городу немцы подходили уже близко, поэтому время не терпело отлагательств. Ответственное задание поручили одному нашему отважному лётчику-истребителю. Получив задание, он взлетел со своего аэродрома. Поднялся в воздух и ровно через один час и двадцать минут приземлился в нашем городе. Забрав секретный пакет, лётчик на своём истребителе взлетел. Поднялся в воздух и обратно же, ровно через восемьдесят минут и без происшествий приземлился на своём аэродроме. А теперь, слушайте, ребятки, вопрос. Внимание, ребятки. Вопрос. Почему самолёт лётчика-истребителя в город летел целый час и двадцать минут, а из города вернулся всего за восемьдесят минут?
Вот это задачка! И действительно, почему это так? Туда целый час и двадцать минут пилил, а оттуда прилетел всего за каких-то восемьдесят минут. Есть от чего свою репу почесать. В классе установилась полная тишина. Даже мне теперь стало не до лапты. Первым не выдержал Иван Слепухов из Батрака [108]. Он всегда так. Сидит, сидит, а потом, как ляпнет что-нибудь ни к селу, ни к городу. Потянул свою руку к верху. Мне хорошо видно, как от нетерпения трясутся его чернильные пальцы. Инспектор замечает поднятую руку и кивает Ивану. Тот тут же подхватывается со своей парты и чётко, на весь класс, говорит [109].
- В город наш истребитель летел на ветер, а из города из-под ветра. На ветер лететь тяжелее. Вот он и летел туда дольше.
Инспектор и Матвей Данилович улыбаются. Инспектор говорит Ивану и нам.
- Я вам, ребятки, забыл сказать. Ветер дул тогда незначительный и он никак не мог повлиять на время обоих полётов. Думайте, ребятки, думайте.
Иван садится за парту. А мы и вправду все думаем. Думаем так, что, аж, слышно, как головы у многих трещат. Повторять пример Ивана никому не хочется. Неудачный пример. Наконец, меня осеняет. И я нехотя поднимаю вверх руку. Инспектор и Матвей Данилович оживляются. Чай, надоело уже ожидать. Они оба кивают мне головой и сглатывают волнительные комки. Их волнение невольно передаётся и мне. Потихоньку начинают одолевать сомнения. Но делать нечего, раз руку поднял, теперь надо подниматься.
- Задачка ваша неправильная, - говорю я инспектору.
Тот, аж, подпрыгнул на стуле.
- Как это неправильная?
- А так. Неправильная и всё тут, - увидев ободряющую улыбку Матвея Даниловича, я уже продолжаю говорить инспектору смелее. – Какая разница, что один час и двадцать минут, что восемьдесят минут? Разницы никакой нет. Поэтому наш истребитель, что туда, что оттуда, пролетел за одинаковое время. Разве не так?
От неправильной задачки и от несправедливости у меня предательски начинают наворачиваться слёзы на глазах. Приходит на помощь Матвей Данилович.
- Так, Витя. Так, - говорит он мне ласково [110].
- Всё верно, молодой человек, - соглашается с нами и строгий инспектор [111]. – Всё верно. Как фамилия этого молодого человека? – спрашивает он у Матвея Даниловича.
Матвей Данилович называет мою фамилию, и инспектор записывает её в свой блокнот. Раздаётся звонок. И мы все облегчённо вздыхаем.
Арифметику я очень любил. Это так. Но всё же не она была моим самым любимым предметом. Из всех предметов больше всего я любил пение. Кажется странным такая любовь, не правда ли? Однако ничего странного в этом нет. Не один я больше всего любил пение. Почитай, все его больше всего и любили. Да и как не любить-то, когда на урок пения Матвей Данилович приносил дивное диво с названием - патефон. Он приносил его из учительской и ставил на край стола. После чего, открывал крышку и доставал изнутри пластинку. Их там лежало несколько. С великой осторожностью он её чистой тряпочкой протирал. И вставлял её в патефон. Затем учитель крутил патефонную ручку. Поворачивал на пластинку трубку с иголкой на конце. И…
Лилась музыка.
Слушая, мы все замирали. Ни у кого не было такого патефонного чуда. «Жили у бабуси два весёлых гуся. Один серый, другой белый – два весёлых гуся» - лилось нежно из патефона. Слушали мы и другие песни. А потом, подражая патефону, и сами пели.
Не любил я рисовать, лепить из пластилина [112] и с первого класса, не любил считать на палочках и счётах. По рисованию Матвей Данилович хоть и поставил мне пятёрку, но на такую оценку я не тянул. Теперь вот, каюсь! Чего Бог не дал, того не дал. Во всяком случае, моё изобразительное искусство мне и самому никогда не нравилось. Единственное, что мне очень похоже удавалось нарисовать, это птиц. Птиц я рисовал быстро и мог их нарисовать сколько угодно много, хоть целую стаю. Не знаю. Неужто отличную оценку учитель поставил мне за одних только птиц?
На лепку из пластилина не хватало терпения. А с палочками и счётами я не дружил из-за их примитивности. Мне легче было посчитать в уме, чем возиться с палочками или костяшками. Вдобавок ещё ко всему, палочки я постоянно терял или ломал. И тогда приходилось их делать на перемене, из чего ни придётся. Матвею Даниловичу такие «быстрые» палочки не нравились, и он часто снижал мне оценки.
Читать мы научились по азбуке. Буква по букве выучили алфавит. Приставляли букву к букве и получался слог. А слог к слогу, получалось слово. Интересно! Потом стали составлять предложения. И попутно учились писать. Предмет назывался – «Чистописание». Шариковых ручек тогда не было и в помине. Писали перьевыми. Помню названия перьев: «звёздочка», «пионер»…
Одного учебного года хватило на овладение грамотой. Как только я научился читать, тут же меня захватила страсть к чтению. Да, ещё, как захватила! Страсть началась со сказок. Как таковую, библиотеку наша начальная школа не имела. Но в учительской комнате стоял шкаф с детскими книгами. Оттуда я, поначалу и «черпал» их для утоления своей страсти. Когда все перечитал, по ходатайству, всё того же, Матвея Даниловича, меня записали во взрослую бригадную библиотеку. Имелась и такая. Теперь, увы, уже нет [113].
Книжный мир захватил меня полностью. Он мне казался лучше и чище настоящего. Ещё бы! «По щучьему веленью, по моему хотенью…» и… на тебе Емеля, чего душе угодно. Как тут не позавидуешь и не отвлечёшься от этого мира? Поймать бы себе такую щуку или золотую рыбку. Емеля, тот ещё, куда ни шло, а старику так и вовсе ничего не досталось от того улова. Старуха себе всё заграбастала. Пожадничала, а после так и осталась у своего разбитого корыта.
Сказок понаписано много. Но, где их мне было достать? Достать негде. На месте же я не стоял. Я рос. И с помощью взрослой библиотеки, постепенно перешёл к чтению других уже книг. От мира сказочного меня бросило в мир путешествий и приключений. Отважные пираты, благородные рыцари. Шторма и турниры. Погони и страшные тайны. И, наконец, долгожданная победа добра над злом. Как же от всего этого оторваться? Иной раз, зачитывался сутками, до крови из носа. Мать и бабушка не справлялись. Приходилось вмешиваться отцу. И только тогда я, выдранный за уши отцом, отрывался от интересной книги.
А фантастика!?
Она так вскружила мне голову, что ради прочтения только одной фантастической книги я мог пожертвовать всем, чем угодно. И жертвовал. То, коров за кого-то стерёг. То, выворачивал наизнанку карманы [114] или делал без очереди самопалы [115]. То, ещё чего-то там делал. Книжная страсть, она сродни и любой страсти. Хотя бы даже страсти и наркотической.
Забегая вперёд, скажу, что книги сослужили мне добрую службу. Не живи я книжными примерами благородных героев и, не понимай книжных границ хорошего и плохого – добра и зла, Бог весть, куда бы меня завела шальная мирская тропинка.
В Бога, поначалу, я веровал. И веровал крепко. И крестик нательный тоже, поначалу, носил. Искра Божья во мне горела, как и у всех. Только некому Ту искру было поддерживать. А самому-то, как устоять? Когда вокруг сплошная советчина и сплошное безбожие. Да и дитя, ведь, ещё. Бога я не забывал. Бога как позабудешь. И страх Его во мне жил. Но сила веры стала ослабевать…
Никого не виню.
Сам во всём виноват.
Так же и с нательным крестиком. Поначалу у бабушки много их было. И в первый класс она мне тоже крестик навесила. Крестики носить мне нравилось. Особенно нравился Бог на кресте. Но я, то подерусь с кем, то поборюсь. В пылу драки или борьбы, не замечу порванной тесёмочки и крестик свой потеряю. Бабушка потом опять мне навесит. Я возьму и опять его потеряю. На каждый день разве крестиков напасёшься? Однажды потерял прямо на уроке физкультуры. Матвей Данилович мою потерю заметил. Крестик тихонько поднял и ничего мне о том не сказал. Уже потом, в старших классах, бабушка Анастасия, по большому секрету, мне рассказала, что он приходил к нам домой. Отдал бабушке крестик и дабы не подводить моего отца [116], строго настрого приказал ей больше крестик на меня не навешивать.
В четвёртом классе в школу неожиданно [117] нагрянула медицинская комиссия. Случилось это событие ранней осенью, когда мы ещё только, только осваивались с новыми учебниками. К тому времени в Нижне-Гусынской начальной школе обучалось восемьдесят учеников. Двадцать восемь в третьем классе, и по двадцать в первом классе и во втором. А в нашем, теперь уже четвёртом, так и оставалось двенадцать. Восемьдесят учеников – цифра приличная. Поэтому, взрослые люди в белых халатах с нами особенно не церемонились. Наскоро переговорив с директором и учительницами, они сразу же приступили к своим обязанностям. Проверяли на вшивость, слух, зрение, зубы. Вот, пожалуй и всё.
Да, едва не забыл, проверяли ещё на чесотку.
При этой проверке у меня и обнаружилось слабое зрение правого глаза. Помню, окулист долго крутила мою голову в разные стороны, всё, разглядывая правый глаз. И так повернёт и этак. От напряжения я, аж, вспотел весь. Наконец, она разглядывать перестала, что-то спросила и выписала рецепт на очки. Диагноз она поставила верный. И носи я с четвёртого класса очки, глядишь, зрение бы и поправилось. Я и носил. Вот только носил с перерывами и весьма малое время. Стекло для правого глаза оказалось не таким простым. Через знакомых, отец его заказывал в Харькове.
Бывало, привезут из Харькова очки. Я их поношу, поношу. А потом потеряю или сломаю. Непоседа же был страшный! Дома ни зимой, ни летом не сидел. То футбол, то хоккей. То взятие снежных крепостей. То катание ранней весной по реке на льдинах. И если бы просто катание! Что вы! Просто кататься на льдинах по реке не так интересно. Давай устраивать на льдинах тараны. Какие уж там очки. Несколько раз я их, то терял, то ломал, то тонул вместе с ними на льдинах. Родители если и думали, то больше не об очках, а, скорей обо мне. А потом, к моей радости, они и вовсе об очках позабыли [118].
Четыре года учёбы прошли. И не скажу, что прошли незаметно. Начальная школа оставила в моей душе глубокие впечатления, а вместе с ними и самые яркие воспоминания. Закончил я её с похвальной грамотой и со всеми пятёрками. И осенью поступил в пятый класс Журавской восьмилетней школы. Отвёл нас туда Матвей Данилович. И оставил на следующие четыре года. Оставил-то, оставил. Только вот, кому оставил? Этот вопрос и до сей поры, не даёт мне покоя.
Журавская восьмилетняя школа находилась в четырёх километрах от дома. Идти туда надо было по хуторским дорогам. Через мост. И дальше по кряжу, всё той же, Среднерусской возвышенности. Донецкая Сеймица делит кряжи на правый и левый. Тот, что повыше – правый. А на том, что стоит село Журавка и школа – левый. Журавский много пониже будет. Дорога, по которой мы ходили в школу, дальше раздваивалась. Один её конец, мимо колхозного тока, уходил на село, а другой [119] в районный центр – Прохоровку.
Если в начальной школе нас учил один Матвей Данилович, то в восьмилетней школе каждый предмет вёл уже отдельный учитель [120]. Из шестнадцати учителей половина была учителя-мужчины. Из них шестеро – офицеры запаса, прошедшие войну. После войны прошло уже более двадцати лет. Однако память о ней тогда ещё сохранялась не только нашими военными трофеями-находками [121], но и рассказами бывших фронтовиков и горем вдов, и сирот, встречавшихся на каждом шагу.
Восьмилетняя школа располагала тремя учебными зданиями и по количеству учеников, примерно, в три раза превосходила нашу начальную школу. В один класс мы уже все не входили. Поэтому нас разделили на два пятых - «А» и «Б». По два потока имелось и в остальных классах. По давней традиции, мы попали в пятый класс «Б». Нашим классным руководителем назначили учителя по физкультуре – Дмитрия Степановича Костюкова. Как и Матвей Данилович, с войны он вернулся старшим лейтенантом. Но, в отличие от нашего учителя, или моего отца, Дмитрий Степанович о войне любил поговорить. И не просто поговорить. Куда там! Разговор о войне для Дмитрия Степановича стал давно самой настоящей страстью. Каждый день он оставлял нас после уроков и голодным, по два и по три часа, всё рассказывал об этой проклятой войне.
Будь она трижды неладна!
Позднее мне как-то пришла в голову мысль, что из всех мне знакомых офицеров-фронтовиков, почему-то никто из них не работал на рядовой должности. Будь-то в колхозе по наряду с вилами или где-то ещё. Все куда-то пристроились. Нашли себе тёпленькие местечки и пристроились. Кто в школу, как Дмитрий Степанович и иже с ним, кто в колхозную контору, а кто выбился и в председатели. Школа, конечно же, была не самым плохим местом обитания. И денежки, и дровишки с угольком. Обратно же, почёт и уважение хуторян. А главное, что всегда ты ходишь чистенький и сам себе в распоряжении, что по времени, что на уме.
С таким количеством школьников совладать одними только гуманными педагогическими приёмами трудно. Это понятно. По нехватке времени и колхозной забитости, родители нас распустили. Однако же, полагаю, методы школьного воспитания применялись к нам слишком жёсткие (а то и жестокие) и несправедливые.
Посудите сами.
Особенно ретивых и балованных учеников учителя-фронтовики отлавливали и, как какую опасную и мерзкую дичь, по одному, заводили к директору школы [122]. Там провинившегося бедолагу нещадно пороли. И пороли так, что крики несчастного ученика разносились далеко по всей школе. Эти крики резали наши детские души, заставляя сердца бояться и трепетать. На одной порке экзекуция не заканчивалась. После неё, школьника ещё насильно остригали налысо и лишь после этого выпускали на свободу. Такая система воспитания мне с первых дней понравилась. Да и кому она могла понравиться? И что это за школа такая? Когда ходишь в неё за тридевять земель и всё время боишься, как бы тебя случайно не выдрали, а потом ещё и не остригли налысо.
В моей душе постепенно назревал протест. И он всё ближе, и ближе (обратно же, говоря современным языком) приближал меня к школьной оппозиции. Самые отчаянные и балованные ребята мне стали казаться примером для подражания. Несмотря на мой малый возраст и всего лишь пятый класс, авторитет председательского сынка, всё же, выделял меня из среды своих сверстников. Он и сыграл свою отрицательную роль. Старшие «плохие» ребята быстро со мной подружились. И вскоре я стал одним из них, то есть тоже «плохим». Уроки я вскоре забросил и ходил в школу только для вида.
В шестом классе произошло печальное событие, оставившее в моём сердце неизгладимый след. Мы убежали из школы. Целый день нас ловили отставные старлеи и капитаны. И после всю неделю искала милиция. Учителя не поймали. И милиция нас не нашла. В школу вернулись мы сами. За этот проступок отец меня очень сильно побил и на долгие годы отчуждил себя от меня [123].
Класс наш слыл дружным. Так оно и было на самом деле. Шестнадцать мальчиков и девять девочек. Как-то так получилось, что, будучи собраны из разных начальных школ, мы не только очень сдружились, но и почувствовали себя одной большой и неделимой семьёй. Учились по-разному. Кто лучше, кто хуже. Но оценки на наши отношения не влияли. Жили без ябед и павликов морозовых, что очень злило директора, и всех остальных его злобных помощников.
Если старлеев и капитанов с указками мы боялись и ненавидели, то к учительницам относились иначе. Многие из них были за ними же замужем. И мы им в этом сочувствовали. В отличие от мужей-фронтовиков, предмет свой они знали хорошо. И не просто знали, но, своей теплотой и женской, материнской любовью [124], старались, хоть как-то, компенсировать издержки столь жёстокого мужского воспитания [125]. Ради этих учительниц, я и не забросил учебники. А, признаться, руки всё время чесались.
И до сей поры, я с великой любовью вспоминаю Анну Гавриловну Заболотскую – учительницу русского языка и литературы – жену директора школы. Она меня не только научила без ошибок писать и привила любовь к русской литературе, но однажды спасла жизнь, вырвав её из рук мужа-деспота. Может быть и не следует об этом эпизоде рассказывать, но я всё ж таки, прости Господи, расскажу.
Случилось это в восьмом классе.
В параллельном классе учился один мальчик, который очень хорошо рисовал. Просто здорово рисовал. Сейчас уже не помню фамилию мальчика. Помню, что звали его Толиком и дразнили - «Герой». Его картины часто вывешивались на стенке в среднем здании школы. Так вот, однажды, после уроков, мы и зашли посмотреть на эти самые картины. В здании никого. Полы чисто вымыты. Кругом тишина и покой. Посмотрели мы на Толиковы картины. Потолкались туда-сюда. И нет бы, да и идти домой. Путь-то не близкий. Так, нет же. Зачем-то запёрлись в пустой класс. В классе тоже чисто и хорошо. Только посреди класса кто-то, ещё до нашего прихода, перевернул урну с мусором. Я не придал этому никакого значения. Ну, перевернул и перевернул. Эка, невидаль. Да, забыл сказать, что дело происходило зимой.
И вдруг, кто в страхе, протяжно-предупредительно крикнул.
- Зо-о-б!!! [126]
Мои приятели сыпанули в разные стороны. Не успел я оглянуться, как их и след простыл. Я вышел из класса и увидел, как туда вошёл директор школы – Алексей Иванович Заболотский. Когда я уже спускался с крыльца, Алексей Иванович меня догнал и, схватив обеими руками за отвороты пальтишка, начал душить и что есть мочи трясти. Я так ничего и не понял. Да и не до пониманий мне было. Перед моими глазами маячило перекошенное страшной злобой лицо директора. Глаза его от бешенства выкатились на лоб, а в уголках рта показалась жёлтая пена. Пена, то последнее, что мне и запомнилось. Сознание стало меркнуть. Я уже ничего не видел и не ощущал. Но слух ещё функционировал.
Ухо и уловило.
- Лёша, отпусти! Лёша, это не он! Прошу тебя, Лёшенька! Отпусти!
Это Анна Гавриловна, увидев, как её муж расправляется со мной на крыльце, оставила урок литературы и выбежала на улицу в тонкой кофточке. И как оказалось, вовремя подоспела. Задержись она на минутку с одеванием верхней одежды, было бы уже поздно. Директор пришёл в себя. Послушался Анны Гавриловны и меня отпустил. Я свалился на крыльцо и тут же потерял сознание. Когда Анна Гавриловна привела меня снегом в чувство, директора школы уже поблизости не было.
С улыбкой и доброй памятью вспоминаю, и Марию Тарасовну Легезину – учительницу географии, анатомии и физиологии человека. Если Анну Гавриловну Заболотскую с полным правом можно было назвать русской красавицей, то Мария Тарасовна отличалась не столько красотой, сколько своей женственностью, любопытством и своим увлечением, порой доходящим до навязчивой страсти. О женственности и любопытстве Марии Тарасовны распространяться, пожалуй, не следует, а вот о её увлечении надо сказать. Со стороны оно выглядело смешным и даже забавным.
Как только Мария Тарасовна садилась за учительский стол и открывала классный журнал, первым делом, она вызывала кого-нибудь из нас к доске, а после доставала из старого портфеля свой объёмный и уже достаточно потёртый кошелёк. Кошелёк с нежностью раскрывала и высыпала из него кучу мелочи на журнал. После чего, принималась с увлечением пересчитывать копейки и двушки.
Я сидел напротив, у учительского стола и мне прекрасно было видно, с каким азартом и увлечением она это делает. Отвлекалась она только тогда, когда, отвечающий у доски ученик замолкал. Тогда она ставила ему дежурную оценку и вызывала к доске следующего. После чего продолжала своё любимое занятие. Мы все привыкли к счёту и пересчёту её мелочи. Считает, ну и пускай себе считает. Кому она этим мешает? Иной раз, Мария Тарасовна и меня увлекала. Сижу, смотрю и вместе с Марией Тарасовной, пересчитываю её копейки. Больше-то делать нечего. Не будешь же слушать Любку Черкашину или Витьку Москалёва.
Первым Мария Тарасовна всегда вызывала Петьку Кононова. Бывало, откроет журнал, смотрит в него и говорит.
- Так. К доске пойдёт отвечать, Петя Кононов.
Петька встаёт и отвечает.
- Я не знаю, Мария Тарасовна.
- Ага, - говорит учительница. – Не знаешь. Ну, что ж, садись. Ставлю тебе кол.
И столько понаставила ему колов и двоек, что Петьку уже за них и отец порол, и Дмитрий Степанович грозился директорским кабинетом. С Петькой я дружил с первого класса. Он жил поближе к Журавской школе и всегда меня ожидал на дороге, чтобы вместе идти по пути. И со школы мы с ним всё время ходили вместе. Жалко мне его было. Порят ни за что, ни про что. Ладно бы там пороли за алгебру или геометрию, а то порят за какую-то там географию. Лёгкий же предмет. Да и Мария Тарасовна никого и никогда не слушает. Выходи и говори, что хочешь. По дороге из школы я ему об этом и сказал.
- А, что ей буду говорить? – отвечает мне Петька.
- Ты же охотник, - говорю ему. - Рассказывай нам про охоту или еще, про что. Какая тебе разница? Только не говори ей, что не знаешь. Выходи смело к доске и говори.
- Ладно, - говорит Петька. – Попробую.
И вот наступило время урока географии. Мария Тарасовна зашла в класс. Мы встали. Она поздоровалась. Мы ответили. Она села на стул. Открыла классный журнал. Поводила по странице пальцем. Потом оторвалась от журнала и говорит.
- Так. К доске пойдёт отвечать, Петя Кононов.
Я смотрю, она уже по привычке потянулась ручкой в журнал, чтобы ставить Петьке очередной кол или двойку. Но, не тут-то было. Петька выходит из-за парты и идёт к доске. Эксперимент наш начинается. Мария Тарасовна удивлённо смотрит на Петьку, а секунду спустя, достаёт из портфеля свой знаменитый кошелёк. Его трепетно открывает и высыпает мелочь на журнал. Этот мир для неё прерывается. Петька же подходит к карте. Берёт указку и, подставив ладонь ко рту, тихо мне шепчет.
- Что задавали?
- Австралия, - так же тихо шепчу я ему.
Где она, эта Австралия? Я-то знаю. А Петька нет. Он переспрашивает.
- Где она?
- Жёлтая, - навожу его цветом на цель.
Петька смотрит на меня и тычет указкой в Африку. Я кручу головой. Не то, мол. Жёлтой остаётся на карте одна лишь Австралия. Петька не дурак, быстро соображает и тычет, с вопросом ко мне, в Австралию Я киваю головой. Верно, мол, в точку попал. После чего он громко на весь класс говорит.
- Австралия!!!
Так громко, что, аж, Мария Тарасовна отрывается от счёта мелочи и с удивлением смотрит на Петькину указку, которая скрупулёзно и без спешки обводит Австралию. Чего её там обводить, когда рядом нет других государств. Но Петька не спешит и обводит тщательно. Видит, что смотрит Мария Тарасовна. Смотрит она не долго. Вскоре снова возвращается к копейкам и двушкам. А Петька начинает рассказывать. Своим рассказом он увлекает весь класс. Да и как нам не увлечься-то, когда вместо рассказа о далёкой и сто лет нам не нужной Австралии, он рассказывает, как в это воскресенье ходил с отцом на охоту. На зайцев. Петька классный рассказчик. Если разговорится, заслушаешься. В этот раз, он превзошёл самого себя.
Петька рассказывает, а Мария Тарасовна всё считает свои деньги. Петька знает, что умолкать нельзя. После охотничьих рассказов, он обратился к теме урока, то есть к Австралии. Начал речки перевирать в водостоки. Зачем-то стал говорить и показывать, какие там строят большие дома. Я уже стал не выдерживать. Вот, вот не выдержу и прысну со смеху. Пока еле, еле держусь. Не выдержал я тогда, когда он стал рассказывать о пустынях Австралии. Цвет-то жёлтый. А Петька знает, что жёлтый цвет, это цвет пустынь. И он угадал. В Австралии и, правда, много пустынных территорий.
- В Австралии очень много пустынь, - говорит уверенно Петька. – В пустынях водятся верблюды. В пустынях часто бывают песчаные бури. Когда бывают песчаные бури, то верблюды становятся на задние лапы и передними закрывают глаза.
После того, как он показывает, как верблюды передними лапами закрывают глаза, я уже не выдерживаю и на весь класс громко хохочу.
Мария Тарасовна отрывается от мелочи и с упрёком на меня смотрит. Как же прервал её любимое занятие. С большим трудом, но я давлю в себе желание смеяться дальше. Не хочется подводить Петьку. После моего мнимого успокоения, она поворачивается к доске и спрашивает моего приятеля.
- Всё, Кононов?
- Всё, Мария Тарасовна, - отвечает Петька.
- Ну, вот видишь. Можешь же учить. Я и знала, что можешь. Поставила бы тебе четвёрку, да у тебя тут одни двойки, да колы. Ладно, садись. Три.
Петька довольный садится на своё место.
О Марии Тарасовне писать можно долго. Только всего не опишешь.
Алгебре и геометрии учила нас Мария Степановна Беляева. Муж у неё сильно пил. И часто ей было совсем не до школы. Предмет она знала блестяще. Теорем по геометрии я никогда не учил. Бывало, спросит меня теорему, а я и не знаю. Поставит кол в журнал. После объяснения новой темы, задаст нам геометрическую задачку. Да не просто так задаст, а с условием – кто первым решит тому поставит пятёрку. Первым всегда почему-то решал я. Рядом с колом, Мария Степановна тут же ставит пятёрку.
Однажды, Дмитрий Степанович, оставил нас после уроков, чтобы рассказывать свои военные сказки, заглянул для порядка в журнал и спрашивает меня.
- А, что это у тебя, Балабанов, за отметки такие по геометрии? В каждой клеточке стоит по пятнадцать. Отродясь таких отметок не видывал.
Пришлось объяснить ему, что и по чём. Постращал он меня для приличия, но так это дело и оставил. Ко мне классный руководитель относился по-взрослому [127], а то и с некоторым уважением. Но не из-за инвалида-отца. Что инвалидность? Таких инвалидов в округе много. Уважение от Дмитрия Степановича мне перепадало из-за отцовской должности.
Много наших хуторян побило и покалечило на советско-германской войне [128]. Но Дмитрий Степанович, как-то, не пострадал, хотя взахлёб всё о ней и рассказывал. По моим родным весям уцелели, всё больше, дезертиры, полицаи, кто вернулся из немецкого плена или же те, кто, как и Дмитрий Степанович, выбились в офицеры и захватили войну в самом её конце, да и то стороной [129].
С Лёником Ждановым я сидел за одной партой с первого класса и по четвёртый. А в Журавской школе меня посадили вместе с Иваном Крюковым. Как так получилось и почему, теперь я уже точно не помню. Из-за нашего роста, что ли? Иван ходил в школу из хутора Скоровка, что километрах в пяти от Журавки. С ним мы быстро подружились. И другом он стал настоящим. Вместе с ним мы мечтали быть лётчиками, а потом и космонавтами, чтобы лететь, куда подальше на освоение космоса [130].
Вначале мы с ним сидели на задней парте. А после, из-за баловства, нас пересадили на первую, рядом с учительским столом. У каждого места есть свои преимущества. Извлекали мы его и сидя на первой парте. И так к нему привыкли, что другого нам и не надо.
В Журавской школе учеников постоянно обыскивали. Обыскать могли, где угодно и когда угодно. До уроков. После уроков. На маленькой переменке. По дороге домой или в школу. Чаще же всего нас обыскивали на большой перемене. Обычно это происходило так.
После звонка девочек отпускали, а всех мальчиков оставляли в классе. Двери плотно закрывались. Раздавалась команда. И мы выстраивались в одну шеренгу у доски. Всё лишнее предлагалось добровольно сдать. Что-то мы и сдавали. После чего [131], учителя-фронтовики приступали к обыску. Нас обыскивали почти каждый день и часто по несколько раз. Но, как фронтовики ни старались, наши арсеналы не уменьшались. Отобранные рогатки, духовые трубочки, стреляльные резинки, гороховые пистолеты, а то и самые настоящие самопалы относились в учительскую. А на следующий день [132] наши карманы наполнялись всё тем же. И так изо дня в день. Случалось, что при обысках отымались вещи и посерьёзнее – сигареты там или же ржавые [133] военные трофеи - в виде патронов, артиллерийского пороха и прочего армейского добра, оставшегося от прошедшей войны. За такие вещи следовало уже особое и неотвратимое наказание.
Первым делом допрос, а потом и порка со стрижкой налысо [134].
Однако не всегда обыски заканчивались даже и так. В нашем классе случилось одно событие, потрясшее школу не в переносном, а в прямом смысле.
Вовка Клочков притащил из дома пачку сырого дымного пороха. Где он его взял, так и осталось тайной, да и не о том речь. Вовка жил в Скоровке, а оттуда можно было притащить и не такое [135]. Прохоровка от них отстояла уже не так далеко. Притащил пачку сырого пороха, ну и положил его подсушить на печку. Сырым-то порохом, что делать? Не на раскалённую плиту положил, а на кирпичи горячие. О пачке той мы тут же забыли. Не до пороха. На переменках баловались. Бегали по классу, как оглашенные. И кто-то зацепил эту пачку. Она и передвинулась на плиту.
А мы не заметили.
На большой перемене в класс с обыском зашли Алексей Иванович Заболотский – директор школы и Дмитрий Степанович Костюков – наш классный руководитель. Девочек они выпустили. И успели закрыть двери. Хорошо ещё, что не успели нас у доски построить…
Директор и наш классный стали посредине класса. Директор уже рот открыл, чтобы давать команду на построение. Армия, видите ли, ему здесь померещилась. Армия, так армия. Рот открыл. И тут, как рвануло. Кирпичи. Дым. Стёкла вдребезги. Грохот такой, что, аж, уши у всех заложило. И ничего не видно. В пустые окна дым быстро густой потянуло. Смотрим. А Алексей Иванович и Дмитрий Степанович из класса по-пластунски вдвоём выползают. В кровищи, в пыли и кирпичными осколками побитые все. А нам хоть бы хны. Даже никого и не поцарапало. Они, правда, тоже в один день оклемались.
Так бы всё и ничего. Да и после этого случая обыскивать стали реже. Жаль только, что Вовку Клочкова из школы выгнали.
Будто он один во всём виноват.
Как бы там ни было, но всё же нельзя сказать, что посещение восьмилетней школы ничего хорошего мне не давало. Что-то полезное падало и во мне оставалось. Да и о нашем дружном классе я уже упоминал. Разве дружба ничего не стоит? И страсть моя к художественному чтению не уменьшилась. Она-то и послужила тем самым предметом воспитания, который легко отвлекал от улицы, заставляя жить и набираться опыта не только на тёмной её стороне. Только, если раньше мне приходилось читать всё интересное, что попадалось под руку, то теперь я увлёкся чтением иностранной литературы. Об избирательности или целенаправленности речи не идёт. До них мне ещё было далеко. Просто, в чтении иностранной литературы, я легче находил для себя самые захватывающие и интересные исторические, и приключенческие темы.
Рядом со школой стоял Журавский дом культуры, располагавший очень хорошей библиотекой. Пожалуй, лучшей библиотекой из всех тех, что потом встретились на моём пути. В ней я и открыл для себя мир: Джека Лондона, Вальтера Скота, Виктора Гюго, Александра Дюма, Фенимора Купера, Артура Конан Дойля, Жюль Верна, Мигель де Сервантеса, Проспера Мериме, Шарля де Костера, Майн Рида и многих других замечательных иностранных писателей.
Читать колхозникам некогда, поэтому столь дефицитные тогда книги в библиотеке стояли свободно. Бери и читай. Полюбил я и русскую литературу на уроках Анны Гавриловны. Тогда же у меня стали получаться и школьные сочинения. Историю тоже знал хорошо. А о географии уже и не говорю. По истории до шестого класса нас учил Матвей Иванович [136], а после - Алексей Иванович – директор школы.
Матвея Ивановича, за его постоянное «дескать», так и дразнили [137] «дескатём». Человеком он был тихим и очень рассеянным. Тоже воевал. И довоевался до нешуточных капитанских чинов. Анна Максимовна – его жена, учила в параллельных «А» классах по русскому языку и литературе. В отличие от своего мужа – Матвея Ивановича, она отличалась сильным характером, и очень высокой требовательностью. Нас она не учила, но эти её качества были хорошо известны и нам.
Матвей Иванович прекрасно знал историю и интересно её рассказывал. Но его никто и никогда не слушал. Уроки истории всегда для нас были большой отдушиной. На уроках Матвея Ивановича можно было набаловаться сколько душе угодно. В пятом классе, на самом первом уроке истории, я его очень удивил, высказав сомнения по поводу достоверности исторической науки.
Мне казалось, что история больше врёт [138], чем говорит правду. Особенно мне не нравилось то, как она убеждает нас о фактах жизни древнего человека. Не нравилась и историческая человеческая цепочка, когда в одном ряду, начиная с приматов, друг за другом идут, якобы, наши предки. Эти свои сомнения я тогда и высказал Матвею Ивановичу, чем привёл его, сначала в растерянность, а потом и в полное недоумение. Он не ожидал такой резкой критики своего предмета и был не готов к его защите. Меня он запомнил и почему-то никогда не спрашивал, ставя заочные пятёрки в классный журнал. Справедливости ради, надо отметить, что в отличие от других уроков, на уроках истории я вёл себя хорошо [139] и знал её действительно на пятёрку.
Директор школы – Алексей Иванович Заболотский – владел предметом истории не хуже Матвея Ивановича и на его уроках, конечно же, никто не баловался и не шумел, но рассказывал он уже не так интересно, как Матвей Иванович. Его слушали, слушал и я, куда же деваться. Но в лице директора, как учителя истории, мы, всё же, больше потеряли, чем приобрели. Алексей Иванович меня спрашивал и ставил почти всегда пятёрки. Моих вопросов он опасался. Я их ему задавал редко. Но, уж, если задавал, так задавал. Иногда его жёсткость превращалась в жестокость. Он выходил из себя и мог нерадивого ученика наказать прямо в классе, при девочках. Случались у него и ошибки.
Но за них он никогда не извинялся [140].
Бога в восьмилетней школе отрицали уже гораздо заметнее, чем в начальной. За ношение крестика могли не только выпороть, но и прилюдно прочитать атеистическую лекцию, высмеять и пристыдить. И мне неизвестен ни один случай, когда, после такого богоборческого мероприятия, кто-нибудь отваживался носить крестик и дальше. О Боге мне напоминали одни лишь кресты на кладбище, да бабушкины ночные и утренние молитвы. Ещё напоминали иконы в старой хате [141].
По поводу ношения крестика припомнился один случай. Хотя, он и не имеет прямого отношения к школе, однако, дабы после не истощилось из памяти, так и быть, расскажу.
На зимних каникулах мамка собрала в узелок пол-литровую бутылку [142] самогонки, кусок сала, краюху хлеба, пару луковиц, дала рубль и со всем этим богатством отправила меня в кузницу. Отправила с тем наказом, чтобы наш бригадный кузнец – дед Ефрем изготовил ей из косы ножик [143]. Учился я в седьмом классе, поэтому мамкино поручение показалось мне лёгким.
Деда Ефрема я знаю давно. Познакомился с ним, когда ещё ходил в начальную школу. Бывало, иду мимо кузницы, нет, нет, да и загляну в приоткрытую дверь. Нравилось мне очень смотреть, как он лихо управляется с раскалённым железом на наковальне. Дед Ефрем - человек строгий и близко не то, что к наковальне, но и к дверям никого [144] не подпускал. А так, издалека, смотри, сколько хочешь. Ему не жалко.
Кузнецом он считался непревзойдённым. Телом был сильным [145]. Со строгим характером и с малоразговорчивым языком. Последним моментом он особенно отличался от многих наших хуторских мужиков. Мне же он казался даже угрюмым и нелюдимым.
Ещё на подходе к кузне, я увидел, как дед Ефрем подковывает бригадирского рысака. Рядом с дедом крутится его молотобоец. А немного поодаль стоят два бригадных плотника вместе с самим бригадиром. Курят и о чём-то разговаривают. Моё любопытство пересилило всё остальное. И я, подойдя поближе, остановился в десяти шагах от деда и рысака.
Дед Ефрем уже заканчивает ковку. Но, всё равно, чуточку интересного зрелища перепадает и мне. Жеребец стоит, как вкопанный. Красавец. И ещё бы ему не стоять. У деда Ефрема не вырвешься. И не побалуешь. Только пар из ноздрей свищет, как у паровоза. Левую переднюю ногу рысака кузнец загнул и зажал её между своих колен. Чистит широким напильником ему копыто. Видно, как жеребцу это нравится. Почистив, дед, не глядя, отдаёт напильник молотобойцу - дядьке Филиппу и прилаживает на копыто подкову. Подкова новая с синевой поволокой. Новые подковы все такие синюшные. Приложив подкову, как следует, он, по одному, выбирает из своих губ зажатые гвозди и вбивает их смачно в подкову.
Загляденье!
Потом плотники запрягают рысака в бригадирские сани. И когда бригадир отъезжает от кузни, дед Ефрем мне хмуро кивает и сипло так спрашивает.
- Чего припёрся?
Как будто сам не видит чего. В кузню с узелками без дела не ходят. Да ещё и бутылка наглядно торчит.
- Мамка послала, - отвечаю я мирно. – Ножик просила сработать косной.
- А в узелке-то чего? – хитро сипит дед.
- Чего, чего, - передразниваю его. – Это тебе, за работу и рубль ещё, вот.
Я достаю из кармана бумажный рубль и вместе с узелком передаю его деду. Дед берёт, развязывает узелок и заглядывает внутрь. А после довольный спрашивает снова.
- Пустую-то бутылку вернуть?
- А, как же, - я отвечаю.
- Тогда иди в плотницкую и там меня подожди.
Деваться мне некуда, иду, куда приказывают. Плотницкая мастерская примыкает вплотную к кузне. Там плотники зимой делают на телеги колёса, а летом лошадиные сани. Я смело захожу к плотникам и прямо с порога с ними здороваюсь. Здороваются со мной и они. Плотники – дядя Ваня Цыганков и дядя Лёша Гнедиков. Оба с хутора Нижняя Гусынка. И дядя Ваня, и дядя Лёша – уже изрядно выпивши. Видать, сегодня я не первый, пришедший за ножиком. Мне известно, что плотники с кузнецом, как и он с ними, по отдельности не выпивают. И с перепавшим по случаю магарычом [146], всегда делятся.
Значит и дед Ефрем, тоже выпивши.
А я и не заметил.
Немного погодя, в плотницкую заходит дед Ефрем и молча ставит на верстак мамкину бутылку. Рядом с нею он раскладывает на газетке уже порезанные хлеб, сало и луковицы. Дядя Ваня Цыганков выуживает из стружек гранёный стакан и дед Ефрем наливает в него самогонку. Потом стакан подаёт не ему, а дяде Лёше. Я наблюдаю со стороны и мне очень интересно. Чувствуется, что дед Ефрем тут за главного. Дядя Лёша быстро опрокидывает содержимое стакана в рот, после крякает и тянется рукой за салом и хлебом. Та же самая процедура повторяется и с дядей Ваней. После дяди Вани выпивает и сам кузнец. Закусывают хуторяне без спешки. Основательно так закусывают.
Закусив, дядя Ваня и дядя Лёша закручивают по цигарке, закуривают, а дед Ефрем отходит в сторону и грузно садится на свободный пенёк. Минуты две или три в плотницкой стоит полная тишина. Слышно только одно сопение мужиков, да их глубокие самосадные затяжки.
- Ты Филиппа по делу послал? – нарушает тишину дядя Лёша.
- Без дела не посылаю, - с металлом в голосе, отвечает дед Ефрем.
- Тогда на сегодня шабашим, - подводит черту дядя Лёша.
Дед Ефрем согласительно кивает головой. Из их разговора я ничего толком не понимаю, потому становится ещё интересней.
- Слышь, Ефрем, - пьяно отзывается со своего места дядя Иван. – Ты бы, пока Филипп возвернётся, рассказал нам, как у фрау в плену жил.
- Ага, Ефрем, расскажи, - поддерживает приятеля и дядя Лёша.
Я сижу тихо и боюсь, чтобы не прогнали. Ножик, ножиком, а намечающийся рассказ в сто раз интересней ножика.
- Я же вам сколько раз уже рассказывал, - удивлённо роняет кузнец.
- Так, когда это было? А ты ещё расскажи. Слушать-то, о той жизни приятно, - не унимается дядя Иван. Теперь мне ещё лучше видно, что его больше всех развезло.
- Ладно, - соглашается дед Ефрем. – Расскажу. Только, если не будете перебивать. Ты, малец, домой не торопишься? – неожиданно спрашивает он меня.
Я усиленно кручу головой и сглатываю подступивший к горлу комок.
- Ну, тогда слушайте.
Дед Ефрем закрывает свои тяжёлые веки, потом их открывает и, глядя куда-то далеко, далеко вдаль, медленно начинает рассказывать:
«Наш стрелковый полк немцу сдался в полном составе. Начальство всё разбежалось, а без начальства мы, всё одно, что слепые. Окружили в поле на танках. Прокричали, сдавайтесь. Мы и сдались. А не сдайся, так перемололи бы в муку. Пару недель подержали нас на голодном пайку. И не одних нас только. Народу тогда поздавалось немцу уйма. Подержали, погрузили в вагоны и отправили эшелоном в Германию.
Отвезли далеко, почти на самую западную германскую границу. Там выгрузили из вагонов. Отсортировали, кого, куда. Не знаю, кто там и куда попал. Нас же определили на сельскохозяйственные работы в поле. Дело шло к осени. И рабочие руки бауэры на ходу расхватывали. Но поработать вместе со всеми мне не пришлось. Приехала на двуколке фрау и по важной бумажке, выбрала меня к себе в работники. Выбирала она не абы, как и не с бухты-барахты. Выбирала по нательному крестику. Верующая попалась фрау. И так тогда получилось, что из всей нашей братии, крестик один я и носил.
Перстом на меня указала.
А через пару часов, мы и прикатили с нею в хозяйство. У нас таких хозяйств нет. Может, при царе у кого и было, а теперь нет. Дом двухэтажный кирпичный. А если, считая с подвалом, то и в три не вберёшь. В самом доме я присутствовать не сподобился, обличьем и чином не вышел, а вот в подвале приходилось бывать. Не подвал, а самый настоящий подземный дворец. Только холодный. Окорока развешаны на крючьях. Бочки винные у дальней стены. Вы таких бочек и отродясь не видали. Не видывал таких бочек и я. Лишнего не скажу. Справный дом и справное было хозяйство.
Конюшня каменная и под черепицу крытая. Коровья ферма такая же. И свиньи у ней тоже, прикормлены и пристроены, прости Господи, так, что не хуже, чем в нашей колхозной конторе начальство. Два трактора ещё с агрегатами и две немецких семьи в работниках. Землицы гектар двести. Земля не такая, как у нас. Землица холодная. Однако, ухоженная.
В конюшне в стойлах двенадцать лошадей. Поначалу они мне в труды и достались. Напоить, покормить, почистить там. Потом надо ещё их и выгулять. Работы на цельный день. При здоровье оно бы ещё, куда ни шло. А так, какой из меня работник, если едва на ногах стою. Фрау не торопилась требовать от меня эту работу. Определила с жильём на сеновал и пару недель подкормила.
Дармоедничать я не привык.
Встану, бывало, в пять часов утра, а то и в четыре, когда вся немчура ещё спит. Пойду на конюшню. И до первого завтрака сделаю эту работу. Тогда днём мне уже малость полегче. Питался я вместе со всеми. На столе хлеба досыта. Омлет, сало, по-ихнему, шпиг. Масло коровье, сметана и молоко. Кофе ещё дымится. Кофе не пил. С собой мне дают бутерброды. Первый завтрак в девять часов утра. Второй в одиннадцать. А обед в два часа дня. Ужин в семь вечера. Между обедом и ужином, опять бутерброды с кофе или молоком. Распорядок строгий. И не приведи Бог его нарушать. Вы спросите, а когда же работать? Верно. К такому мы не привычны. Но я вскоре привык. Куда же деваться? Поправился быстро и привык. А через месяц или полтора и в силу вошёл. На таких-то харчах, грех не войти. Да, забыл сказать, в обед и на ужин свинины давали от пуза.
Ешь, не хочу.
Фрау звали - Марта. И у нас такие имена теперь водятся. Коров даже, кто называет. Марта – бабёнка справная. Муж у неё офицером на фронте, но в чинах небольших. Я работаю. И время тоже идёт. Думаю всё о домашних. Как они, думаю, там? По детям стал сильно скучать [147]. Однако думы, думами, а тело, оно своё берёт. И после сорок третьего года, стали мы жить с Мартою, как муж и жена. При мальце не скажу о начале. С чего и как оно всё начиналось. Дело это не хитрое. Да и раньше вы слышали. В дом она меня жить не пустила. Но с сеновала перевела. Стал ночевать я во флигеле.
Ну и понятное дело, что ночевать не один.
В сорок четвёртом прибыл на побывку её муж-офицер. После ранения его отпустили долечиваться. Прибыл-то, прибыл. И всё бы ничего. Да жена в положении. Ветром живот не надуешь. Виду интеллигентного. Стал он допытываться. То, да, сё. Кто? Допытался. А после пришёл ко мне пьяный и долго мутузил. Конечно, я мог задавить его одной левой рукой. Офицерик-то хлипкий. Задавил бы. Ну и что? А опосля, куда мне деваться? Он мутузит меня по мусалам [148], а я стою и терплю. Когда руку офицерик зашиб, то стал бить по груди. Тута легче мне стало. Наконец, Гансик [149] выдохся, бросил.
И больше меня он не бил.
Пробыл он с месяц. Подлечился маленько. И снова на фронт. Верите. Перед отбывкой зашёл ко мне. Плачет. И просит прощения. Видать, чувствовал, бедолага, смерть и что больше сюда уже никогда не вернётся. И точно. Месяца через два получает Марта известие о его смерти. А в конце сорок четвёртого и сынишку она родила. Вот, так-то. Весной сорок пятого попали мы под английскую оккупацию. Мне уже невмоготу. Тянет домой так, что терпеть нету мочи. Мучаюсь сам. И Марта мучается. Делать нечего. Надо решаться. Я и решился. Попрощался с сыном и Мартой, и к англичанам в гости. Так, мол и так, хочу в Россию. Они меня помурыжили немного для порядка, да и переправили в советскую оккупационную зону. Там я, как было, всё и рассказал. Особисты покачали головой, покачали. Чудно им стало, как это я от жизни такой и в СССР.
Отпустили домой».
Дед Ефрем замолчал. Дядя Ваня почесал пятернёй затылок. Дядя Лёша тоже завертелся на пне. Всем хотелось деда о чём-то спросить. Но тут неожиданно появился в дверях хмельной и всем довольный дядька Филипп. Появился он не один, а с тяжёлой плетёной авоськой. На версту видно, как из авоськи торчит увесистая бутыль самогона и оттопыривается завёрнутая в чистую тряпицу закуска.
С таким богатством уже не до вопросов.
- Ты выдай мальцу ножик и пусть идёт, - приказал ему дед Ефрем. – Да, выбери, который получше. Или постой. Я сам выберу. Пошли со мной, - это дед уже мне.
Я вышел вслед за дедом и впервые переступил порог кузницы. В кузне пахнет горелым углём и горячим металлом. В нос лезет кисловатый угарный газ. Пару раз дыхнул, не выдержал и чихнул. В горне поблескивают ещё живые огоньки. А за горном висят сморщенные мехи. Вот бы потрогать и покачать воздух! Размечтался. Если и покачаю, то кто мне потом поверит.
Не обращая на меня внимания, дед Ефрем вытащил заначку с ножиками. Покопался в ней и из дюжины уже готовых ножей выбрал один.
Прежде чем его отдать спросил.
- А ты, малец, понял, что из моего рассказа?
Я пожал плечами и брякнул наобум.
- Понял, что у тебя сын в Германии остался.
Дед Ефрем поморщился, словно от зубной боли и тяжело вздохнув, произнёс.
- Это верно. Остался. Только не в ём одном суть. Сам помысли. Тут дело другое. Не будь у меня нательного крестика, Марта меня бы не выбрала. Так? Так. И как бы опосля сложилася моя судьба, оно ещё неизвестно. Может, давно бы и на свете не было. В крестике всё дело, малец. В крестике. А так пуще крестика, в Боге. Ладно, держи ножик и выматывайся отседова.
Ножик и, правда, он выдал мне классный [150]. Он потом долго мамке служил.
Родненькие мои!
На белом свете всё когда-то кончается. Жизнь земная подобна падению метеорита. Вот она блеснула и уже её нет. И потом выясняется, что ты так ничего и не успел. Даже толком её разглядеть. Так же и у меня. Прошли эти четыре окаянных года. Мелькнули быстрее метеорита. Очень тяжело они мне дались. Тёмный осадок придавил душу. А винить некого. Учителя, учителями. Их мало, а нас много. Поэтому и тяжесть, и осадок – всё на моей совести. Не смог я в себе удержать душевное равновесие. Не удалось пройти мимо и общественной жизни. Теперь-то я понимаю, что без православного воспитания и поддержки сделать это одному не так просто. Понимать-то понимаю, но разве от понимания легче? Грех и сто раз раскаянный, нет, нет, да и всплывёт наружу. Простил ли Господь? Помиловал ли? Вот и шепчешь про себя неустанно: «Господи, прости и помилуй!».
Старцы, если и жили на наших хуторах, то от православия они уже отошли. Даже и столетние Трофим с Матвеем. Космос, космосом и критика, критикой. Их недовольство, так, всё больше поверхностное. На самом же деле, от остальных хуторян они далеко не оторвались. Куда же от опчества-то? Советские чаяния, и надежды давно стали и их чаяниями, и надеждами. А советские радости, их радостями.
Скажу перед Богом и вами, и аз многогрешный, жил тогда не со Всемилостивым Богом, а с теми же самыми радостями.
По-другому и быть не могло.
Советская пропаганда и агитация, не имея православных препонов, довольно легко вползала в наши детские души. Вползла она и в мою. Я искренне верил, что несправедливость и ложь, уже подмеченные мною в миру, есть явление не всеобщее, а эпизодическое. И что, светлое коммунистическое будущее, о котором нам неустанно талдычат и талмудят по радио, в газетах и на уже появившемся телевидении, и есть та самая настоящая цель, к которой только и надо стремиться в жизни. Если, уж, в храмах служат попы - коммунисты [151], то, что спрашивать с нас - малолетних и несмышлёных.
Не знаю, есть ли смысл в сравнении своих прожитых лет. Всё равно, из числа их не выкинешь. А своё, как говорится, оно и есть своё. Но, если всё-таки есть, то восьмилетняя школа несравнима со школой начальной. И не только по интересу к обучению и как следствие, полученным знаниям. Да и что знания! Сами по себе, они не столь и важны.
Мало проку в том, что ты научился решать квадратные уравнения, знаешь химическую формулу воды или имеешь представление о жидкости, находящейся в сообщающихся сосудах. Здесь намного важнее другая ипостась, от которой зависит прочность жизненного фундамента. Она-то у меня и оказалась скользкой. С её хитрой подачи мой жизненный фундамент строился не столько на песке, сколько из самого песка. Поэтому и не случайно, что он потом рассыпался, породив душевную пустоту, ненависть и разочарование в советском строе.
Но и об этом, Бог даст, впереди.
Восьмилетнюю же школу я закончил неважно. О чём и свидетельствовал соответствующий документ. Он пестрел тройками, четвёрками и редкими пятёрками. Выбора не оставалось. Плохое зрение правого глаза закрыло для меня доступ ко всем военным училищам [152]. Мечта стать лётчиком умерла. И мне её было жалко до слёз. Впервые в жизни я растерялся и серьёзно задумался.
Над чем?
Да, всё над тем же. Извечно человеческим, а не только русским. Что делать? И куда деваться? Получалось, что, как ни мозгуй и ни думай, а деваться мне некуда. Стало быть, надо идти в девятый класс. Ближайшая средняя школа имелась только в Радьковке, что в семи километрах от дома. Из Радьковки родом моя мама. Там ещё жили дедушка с бабушкой и многочисленные родственники по материнской линии. Отец тоже приобщился к селу. Колхозы неожиданно объединили и его поставили председателем Радьковского сельсовета. Но поставили не сразу, а спустя какое-то время [153].
Семь километров топать по грязи не хотелось…
Однако пришлось.
В Радьковской школе собрались ученики из отдалённых весей. Что там какие-то мои семь километров! Семь километров, это так, пустяк. Из села Сеймица ребята топали по пятнадцать километров. Из Журавки – одиннадцать. А из Сергиевки - по двенадцать. И это только в один конец. Других школ поблизости больше не было. Хочешь, ходи и учись, а хочешь, иди в колхоз и работай. Работать в колхозе никому не хотелось. Лучше, уж, грязь месить и учиться, чем скирдовать в поле солому или счищать на ферме навоз. Поэтому многие выбрали школу.
Столько народа пришло учиться, что глаза разбегались. Учителя разбили нас на три класса – «А», «Б» и «В». Из нашей школы в среднюю школу пришло учиться шесть человек из пятидесяти. Остальные поступили в техникумы и профтехучилища или ещё куда. Больше учеников пришло из сёл: Храпачёвка, Масловка, Петровка, Сеймица, Кривошеевка…
Вдвоём с Толиком Погребным мы попали в девятый класс «А». Этот класс оказался коренным, Радьковским. К нему добавили нас и ещё трёх учеников из Храпачёвки. Человек двадцать пять и набралось. В остальных девятых классах сборности оказалось побольше.
В средней школе требования к обучению превзошли мои ожидания и вначале показались невероятно высокими [154]. Оно и понятно, почему. Базовых знаний у меня не хватало. А по точным наукам имелись такие пробелы, что впору хвататься за голову. Я и схватился. Выглядеть белой вороной на фоне сильного класса не хотелось. Поэтому волей, неволей пришлось браться за ум и подтягиваться к остальным ученикам. Ох и трудное же это дело, заполнять давным-давно упущенное. Пришлось отыскивать старые учебники и корпеть над ними часами, изо дня в день, из месяца в месяц…
С такой двойной нагрузкой я и проучился почти весь девятый класс [155].
Очень высокая требовательность к знанию предмета и особенная человеческая участливость в судьбе каждого ученика – оставались не единственными критериями Радьковских учителей. Если в Журавке нас и пороли-то всё больше с политической подоплёкой [156], то в Радьковке [157], наоборот, витала удивительная аполитичность. Здесь не политика, а знания стояли на первом месте. Бывших фронтовиков хватало и здесь, однако, их культурный уровень намного превышал уже нами увиденное и пройденное. Все учителя-фронтовики имели высшее педагогическое образование. На фронте никто из них не выбился в офицеры. Может быть, этим и объясняется их более высокий культурный уровень? Бог весть. Чего не знаю, того не знаю.
Николай Артёмович Кузубов учил нас по русскому языку и литературе. Тихий и очень скромный человек. Я никогда не слышал от него громкого слова. За самостоятельность в сочинениях, он часто называл меня «партизаном» в литературе. Дело в том, что я очень не любил писать сочинения по уже трижды «разжёванной» теме, поэтому и искал новые подходы к ней. Иногда удавалось, что-то найти. И тогда Николай Артёмович зачитывал мой скромный труд перед классом, давая всем понять, что так, всё же, писать не следует.
Дмитрий Иванович Будков учил по химии. Он отличался строгостью и повышенной требовательностью к своему любимому предмету. По химии у него прилично учились даже закоренелые двоечники. Дмитрий Иванович потерял в войну ногу [158] и передвигался на двух костылях. Человек он большой, мужественный и из-за тяжёлого ранения, немножко нервный.
Василий Емельянович Кузубов, однофамилец Николая Артёмовича, учил нас по математике. Он захватил ещё и финскую кампанию. Лицевое ранение повредило ему полость рта, из-за чего он заметно шепелявил. Однако эта шепелявистость не мешала Василию Емельяновичу вести уроки и занимать пост завуча. И с тем и с другим, он справлялся успешно.
Дмитрий Денисович Старченко – директор школы. Вёл он обществоведение. Если, кто вспомнит, то теперь уже и не скажет о чём этот предмет? Так. Ни о чём. Переливание из пустого в порожнее. Базис, надстройка. Чего базис? Какая надстройка? Дмитрий Денисович слыл в школе человеком, хотя и добрейшим, но чрезвычайно рассеянным. Расскажу вам лишь один случай.
А вы, уж, смотрите сами.
Заходит он в наш класс на свой урок. Класс, понятное дело, почтительно встаёт. Дмитрий Денисович проходит на середину и оттуда со всеми здоровается. Класс ему дружно отвечает и тут же садится на свои места. А директор проходит дальше. Садится за стол и, напялив на нос огромные очки, открывает классный журнал. Лицом Дмитрий Денисович очень похож на актёра Игоря Ильинского. Прямо точная его копия. Так, вот. Открывает он журнал и у дежурной по классу спрашивает.
- Кто у нас отсутствует на уроке?
- На уроке отсутствует Лантратова Мария, - отвечает бойко дежурная.
- Та-ак, - тянет директор, ставя галочку в журнал. – Отсутствует, значит, Лантратова. Хорошо.
На секунду он отрывается от журнала, смотрит сквозь стёкла очков и через наши плечи в окно. Потом обратно склоняется к журналу и говорит.
- Так. Отвечать к доске пойдёт, пойдёт к доске отвечать - Лантратова Мария.
- Дмитрий Денисович, - объясняет ему один из близ сидящих учеников. – Лантратова отсутствует.
- Ах, да. Лантратова отсутствует. Так. Понятно. А чего это она отсутствует? – спрашивает учитель больше себя, чем класс.
За весь класс нехотя отвечает всё тот же, из близ сидящих учеников.
- Болеет, наверное.
- Болеет, - повторяет Дмитрий Денисович. – Болеть нехорошо. Ну, ладно. Тогда пойдёт отвечать. Так, кто же у нас, всё-таки, пойдёт отвечать. Ага. Пойдёт к доске отвечать - Лантратова Мария.
Нам уже становится смешно, но мы пока терпим и вида не подаём. А словоохотливый ученик опять поясняет директору.
- Дмитрий Денисович, так нет же Лантратовой.
- Нет? – он заглядывает в журнал и напротив фамилии отсутствующей ученицы легко отыскивает только что поставленную свою же галочку. – И верно, нет. Ну, тогда пойдёт отвечать. Кто же у нас пойдёт отвечать? А пойдёт у нас отвечать - Лантратова Мария.
Тут мы уже не выдерживаем и откровенно громко смеёмся. После нашего смеха Дмитрий Денисович, наконец, собирается с мыслями и вызывает к доске не Лантратову.
Интересных и смешных случаев из школьной жизни я могу рассказывать много. Рассказывать-то можно, да боюсь согрешить перед Богом. Уж, лучше помолчу.
Два года не четыре. И пролетели они быстро. Остались позади два года ходьбы по грязи, волнительные экзамены, шумный выпускной вечер и торжественное вручение документа об образовании. Хороший аттестат позволял надеяться на поступление в высшее учебное заведение [159]. Так мне думалось, и верилось. Но не у одного меня случились такие хорошие аттестаты. Нашлись аттестаты и получше. А пуще того, нашлись поумнее головы. Хотя, поступай я не на исторический факультет Харьковского университета, а куда попроще, глядишь и поступил бы. А так, поступить на такой престижнейший факультет никаких шансов у меня не было. Даже и одного. И знания не того уровня и обличье лица с фамилией - не от Хама, а от Иафета [160]…
Одним словом, поступать-то я поступал, но так и не поступил.
Город меня жизнью своей не прельщал. А до армии ещё надо было дожить.
Оставалось одно – колхоз.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Колхоз
«Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них».
(Книга Екклесиаста, или Проповедника. 9. 12).
Возлюбленные мои!
Господь наш, по великой милости Своей, по праведности Боголюбивых пращуров наших, ниспослал русским людям столько землицы, как никому и никогда прежде. Нет и не было (и не будет) ни одного народа, приближающегося к нам по количеству милостей и щедрот Божьих? Если вы ищите таковых в памяти, то не ищите напрасно. Такого народа вы не отыщите и найдёте.
Ибо не было и нет его на земле.
Даже и теперь, в эти окаянные дни, Господь всё ещё оставляет нам много от щедрот Своих. И не столько для пропитания, как для сущего вразумления. А сколько мы уже потеряли, того и не сосчитать. Территория этого государства безбожного несравнима с просторами благословенной Российской Империи. И аз многогрешный, откровенно ностальгирую и плачу по уже упущенной, и так обильно политой русской кровью земле. А так, пуще того, плачу и рыдаю по нашему отступлению от Бога и Царя, от Святого Православия. Можете обвинять меня, нечестивые люди, в имперских амбициях или в чём вам угодно! Обвиняйте! Что мне ваши обвинения? Только обвиняя, помните и трепещите! Ибо я верю и знаю, что наши молитвенные слёзы [161] смоют позор отступления. И тогда Господь нас простит, и помилует. И дарует нам по своей любви пуще прежнего. Так будет. И время это уже скоро.
Плодородная земля Черноземья недолго ожидала своих Божьих посланцев. Уже в конце десятого века мои Боголюбивые пращуры начали обживать столь богатые вольные земли. Тогда они считались окраиной Руси. Приходили семьями и поодиночке. Сбивались в поселения и городища. Укрепляли их. Возводили православные часовни и храмы. И с Божьей помощью приступали к труду на земле. А вокруг кочевые племена. Языческая тьма. Постоянные набеги…
Рука не дрожала и душа тоже. Если же у кого и дрожала, тот долго не выдерживал и уходил. Постепенно православные люди привыкали к сохе и мечу. Не просто жить в таких условиях. Но ничего. Главное – жить с Богом! Господь не оставлял Своих верных детей. Окраины крепли и преумножались. Городища превращались в городки и города. И со временем, русские люди становились надёжным щитом для Святой Руси и трудной преградой на пути нечестивых в её глубины.
Так и жили с мечом под рукой, и с крестом в головах.
Белгород и Курск насчитывают добрый десяток столетий. Есть в Черноземье места и постарше. Разговор не о них. Как уже было сказано выше, мои родные места осваивались значительно позднее. С чем это связано, сказать затрудняюсь. Может быть, просто для расселения не хватало людей. Однако освоили и обжили. И к началу безбожной власти по руслу Донецкой Сеймицы люди жили безбедно.
Не многие из наших крестьян втянулись в революционную авантюру. И при советах ещё долгое время продолжали жить по старинке. Жили до тех пор, пока советская пропаганда и агитация, как ржа не разъела души отдельных крестьян – активистов. Одурманенные люди превратились в настоящих служителей сатаны. С их помощью и начался всеобщий грабёж, названный потом раскулачиванием. Страху и горю на хуторах он наделало не мало. Не удалось отсидеться зажиточным людям за своими плетнями. Жизненный принцип - «моя хата с краю» - на этот раз не помог, не сработал. Активисты добрались и до краёв.
Десятки ограбленных властью хуторских семей потянулись, под конвоем, на русские Севера, в Сибирь, Казахстан и куда подалее. Потянулись без имущества, без мнимых прав и свобод, без ничего. Многие потом там и сгинули, и пропали без вести [162]. Вот после такого страха-то и увиденного соседского горя, попробуй и не пойди в колхоз? Советская власть, вдобавок ко всему - ещё и хитрая штука. Она прекрасно понимала, что объяви она вначале о приёме в колхоз, кто же в него пойдёт?
Никто. А прижми, как следует, мелкого сельского собственника, выдави из него слёзы и кровушку, вот тогда с ним и можно разговаривать. Прижали так трудягу-крестьянина и выдавили из него столько слёз и кровушки, что у проклятых советов, аж, дурная голова закружилась от успехов [163]. Когда стали записывать людей в колхоз, по нашим весям не нашлось ни одного отказника.
Так, все скопом в безбожие и записались.
Голод начала тридцатых годов и впроголодь всё последующее время, каторжный труд с утра и до вечера, страх и трепет перед властью – всё это и ещё многое чего другое, сполна испытали мои земляки. Потому и не спешили рваться на советско-германский фронт. Чего они там забыли? Жизнь одна и своя рубаха ближе к телу. А советская власть, так и вовсе – и не жизнь, и не рубаха. Кто попадал на фронт, старались, как можно быстрее возвратиться домой. И возвращались. Если не перебегали к немцам, конечно. По моим наблюдениям и подсчётам, около трёх четвертей хуторян дезертировали в начальный период войны. В сорок третьем году власть их «помиловала» и опять забрала на войну. Забрала не из милости, какая уж тут милость, а из-за скудности человеческой. По тюрьмам и войнам народец весь порастрясли. И дожились до такого, что и воевать-то стало некому. Для пушечного же мяса годились все.
И дезертиры тоже годились.
После войны, снова голод и безпролазная нищета. На хуторах оставались семьи, для которых и наспех вырытая землянка считалась родным домом. И это на богатейших-то землях! Кормили советским хлебом всех, кого ни попадя, а своих людей морили голодом. Впрочем, каких там своих людей? Для безбожной власти своих людей не существует в природе.
После войны и года, этак, до шестидесятого [164], в сельской местности ещё оставался крестьянский дух. Вот если бы тогда разрешили фермерство [165], то, может быть, советская деревня ещё и пожила. Но куда там! Деревенское прошлое и ворошить не следует. Наоборот. Во времена Хрущёва приусадебные участки многократно перемеривались. И лишние сотки земли - беспощадно отрезались. А о двух коровах, упаси Бог, и думать не смей. Не отобрали бы последнюю…
Две коровы колхознику держать не разрешалось.
Родом Хрущёв из Калиновки, что в Курской области. Говорят, в юности он был свинопасом. Что ж, быть свинопасом, для простого человека, это ничего. А если с Богом и Верой, так и спасительно. Хрущёв же, как был неверующим свинопасом, так им до конца и остался. О его сельскохозяйственном мировоззрении наглядно свидетельствует хотя бы и вот этот случай.
Как-то приехал он на свою родину. В Калиновку, значит. По его приезду, согнали всех людей в клуб. И под дежурные [167] аплодисменты, и бденным охранным оком, начал Никита Сергеевич свою обычную речь о том, что будто скоро в стране наступит коммунизм. И будто наступит такое благоденствие, что прямо ниоткуда изольются молочные реки с кисельными берегами. И что, мол, вам, дорогим моим землякам, тогда будет так хорошо жить, что и ни в сказке сказать, и ни пером описать.
Коров вы, мол, держать не будете…
После этой фразы о коровах один человек в зале не выдержал и громко так, по-хохлацки, выкрикнул.
- Мыкыта, да чi ты здурiв? [168]
Хрущёв поперхнулся на очередном слове и от злости весь покрылся испариной. Охрана, было, кинулась в зал отыскивать виновника «преступления», однако у Хрущёва хватило ума их остановить. Смелого человека не тронули. Хрущёв вскоре уехал. А людская молва, о «дурости» первого человека в СССР, пошла гулять по городам, посёлкам и весям.
Докатилась она и до моих ушей.
В Хрущёвское время много случилось всякого. И целина. И культ личности Сталина. И пресловутая «оттепель», его же имени. При Хрущёве начался и великий исход крестьян от земли. Я нисколько не преувеличиваю. Иначе, как «великим» исход этот не назовёшь. О нём мало теперь говорят. Раньше тоже говорили не много. Оно и понятно. Крестьяне, люди всё больше молчаливые. А городским политиканам, всегда не до крестьян. Так оно везде по миру, а не только у нас.
Рабство на земле ещё оставалось [169]. Но гонка вооружений и грандиозные партийно-промышленные прожекты требовали всё новых и новых рабочих рук. А откуда их взять, если не из сельской местности. Крестьян раскрепостили, едва не сказав: «Бегите». Они и побежали. Люди избавлялись от колхозной каторги и раньше. Но, что вы? Раньше, совсем не то, что при Хрущёве. Раньше уходили через армию и флот, правоохранительные органы, через наборы в ФЗУ [170]…
Теперь же уходили по родительскому и своему желанию.
Да и как не уходить, когда с самого раннего детства дитё своими глазами видело каторжную родительскую жизнь, и постоянно слышало от них одно и то же наставление: «Сыночек (или доченька) видишь, как мы трудно живём. И светлой минуточки нет. Учись, чтобы, не дай Бог и тебе не остаться в деревне. Нам уже всё равно, как-нибудь свой век доживём. А тебе ещё жить, да жить. В городе лучшая жизнь. Будешь хорошо учиться, поступишь в институт или техникум и останешься в городе. А мы тебе будем помогать и радоваться на старости лет, что тебе выпала лучшая доля…».
Ну и уходили.
Когда я пришёл работать в колхозную тракторную бригаду, моих сверстников рядом уже и близко не стояло. Все разбежались по ближним и дальним городам.
Прошу понять меня правильно. Зачем мне охаивать советский строй и его колхозное детище? Говорю, как на духу. Нет у меня такой мысли. Да и зачем мне их охаивать, когда и так, всё видно и понятно. При советах люди жили по-разному. Когда-то хуже, когда-то немножечко лучше. Другое дело, что никогда не жили православно. И никогда не жили богато.
Сейчас же, сравнивая те прожитые отрезки времени, пожилые люди впадают в иллюзию и думают, что при советах они жили лучше, чем теперь. Ничего подобного! В советское время жили всегда плохо и жили в страхе. Но сами были молоды. Любили друг друга, рожали детей. Имели свои малые семейные радости. Оттого и кажется, что жизнь прошла правильно и насыщенно. Иногда хвалят Брежнева и вспоминают, что при нём наелись хлеба досыта. Самогонки напились вдосталь. И на сберкнижку положили рубли. О Боге почему-то никто не вспоминает. Бога, как тогда, так и теперь забыли на веки вечные.
Бога забыли. Это верно. Только вот Господь Бог нас не забыл окаянных.
Колхозы поначалу обобрали крестьян до нитки. И до войны колхозники еле, еле перебивались с хлеба на квас. Хлеба часто до весны не хватало. Приходилось есть, что ни попадя. Ели щавель, лебеду, свёколку. Свёколка это ещё, слава Богу. Свёколка, это ничего. Ей радовались. Случалось, что и голодали. Ни поесть в хате нечего и ни одеться не во что. Нищета. В пору с сумой идти по миру. Только, куда идти, когда везде и всё одинаково. Так и дожили с горем пополам до самой войны. А в войну бойцы НКВД взяли, да и подожгли Прохоровский элеватор. Зачем подожгли? А, чтобы врагу не досталось. Нет бы, раздать зерно колхозникам. Но, куда там! Пусть уж лучше всё сгорит и никому ничего не достанется. Ни зёрнышка.
Политика такая.
Войска вместе с советской властью отошли на восток. А местное население оказалось брошенным на произвол судьбы. Осталось только одно - перекреститься и умереть с голоду. Однако Господь голода не допустил. Да и крестьяне от временного безвластия не растерялись. Как известно, худа без добра не бывает. Ещё до подхода немцев, хуторяне растащили всю горелую пшеничку по своим хатам. Приходили и приезжали за ней из самых дальних хуторов. Не пропадать же добру зазря. Пшеничка та потом, ох, как пригодилась. Многих людей она спасла от голодной смерти. Хлебушко из неё получался славный. Пусть и попахивал он изрядно дымком, но это ничего, силушку свою он не потерял.
Немцы открыли в Радьковке церковь. И землю крестьянам раздали. Раздать то, раздали, а работать на ней всё равно некому. Сеять и убирать пришлось сообща. Потом пришли снова советы. И колхозная жизнь продолжилась. Жизнь на наших хуторах во многом зависела от председателя колхоза. Если председатель попадался толковый, то и жизнь текла веселей, и сытней.
Ещё и война не закончилась, как председателем на наших трёх хуторах поставили Курганского Матвея Ивановича. До войны он окончил полеводческие курсы и жил на хуторе Мироновка. Вернулся раньше домой по ранению. Ставить больше некого. Его и поставили председателем колхоза. Звали его за глаза «дядя», а жену «тётя». Колхоз же назывался «Путь крестьянина».
Матвей Иванович оказался не глупым человеком. Ещё война где-то гремит. Вокруг разруха и голодно. Районное начальство бушует и берёт за горло - требует зернопоставки и прочее. Впору загорюниться или же запить горькую. Но «дядя» не растерялся. По сусекам и где плохо лежит начал он потихоньку собирать, что осталось. Осталось мало что. Но, то скотинка, какая брошенная властями прибьётся. То лошади от кавалерийских корпусов отобьются. То ещё, что перепадёт. Так, мало помалу кое-что в колхозе и завелось. А уж раз завелось, то и развелось. С приплодом и поделиться, для пущей пользы, не грех. С кем поделиться? Понятное дело, с кем. Не абы же с кем, а с нужными для колхоза людьми.
И повёз мой сосед Порфирий, а «дядин» ездовой, в Прохоровку подарки. И «тётину» самогоночку, и «дядиных» поросяток и баранчиков. Кому повёз? Известно, кому. Секретарю райкома повёз, начальнику милиции, прокурору, начальнику райзо [171]. Нужным людям повёз. Эти нужные люди потом и пригодились. Когда в сорок шестом и сорок седьмом году случился недород от засухи, а по хуторским весям прокатился страшный голод, то, по просьбе Матвея Ивановича, они и актировали одно ячменное поле, как некондиционное. Это поле спасло многие жизни от голодной смерти. На каждую семью пухлых колхозников раздал «дядя» по пуду ячменного зерна. Им и спаслись от смерти. Одного Антона и унесла она клятая. На других хуторах унесла много больше людей.
Позднее, маленькие колхозики начали укрупнять и ставить председателями офицеров-фронтовиков из местных хуторян. Конкуренции «дядя» не выдержал. Не помогли даже прежние связи. Без блеска погон и орденов трудно удержаться на плаву.
Офицеры-фронтовики много пили и долго на своём месте не удерживались. На их место приходили другие. И такая кадровая чехарда продолжалась до шестидесятого года. В шестидесятом году председателем колхоза у нас поставили Зенина Кима Степановича. Если Матвея Ивановича я запомнил уже довольно пожилым и больным человеком, то Кима Степановича помню весёлым и жизнерадостным. Запомнил любителем русских песен и шумных застолий, и ещё великолепным юмористом-рассказчиком. Он часто бывал у нас в гостях. Всегда называл нас своими «зятьями». И когда он привозил с собой своих дочек (наших погодков), мы с братом от стыда прятались или убегали от его дочек подальше.
Родом Ким Степанович из соседнего района Курской области и до своего председательства работал главным редактором районной газеты. Приехал он, однажды, уполномоченным от района и на общем колхозном собрании стал бойко говорить и поучать, как надо правильно работать на земле. Говорить, оно, конечно, можно. Говорить, это не работать. Да и язык, как известно, без костей. Только и колхозники, не будь дураками и, видя столь шустрого говоруна, взяли, да и выбрали его в председатели.
Ким Степанович, было, опешил и начал отмахиваться от новой должности, и всем говорить, что он никогда не работал в сельском хозяйстве и что даже не знает, как курей разводить. Но колхозники остались непреклонными. Раз выбрали председателем, так и менять нечего. В районе его кандидатуру утвердили. Утвердили и в области. Ничего не поделаешь. Пришлось засучивать рукава и браться за незнакомое дело. На первом же заседании правления, Ким Степанович откровенно признался в своём очевидном невежестве и, пообещав быстро учиться, отдал в руки специалистов колхозные отрасли.
Через год колхоз вышел на первые места в районе.
Главное, не мешать людям знающим и умеющим работать. Остальное приложится. И приложилось. Четыре года он проработал в наших местах, затем его повысили и забрали в область.
С другими председателями не всё получалось так удачно. То бывшего директора кирпичного завода пришлют. То пьяницу инструктора райкома партии поставят. Не выгонять же своего человека на улицу. То еще, какого проходимца утвердят.
После Кима Степановича один только Коржов Иван Николаевич и достоин упоминания. Мужиком он оказался настоящим - хватким и в меру разумным. С высшим агрономическим образованием. Ему быстро удалось навести утерянный за годы порядок. Председателем колхоза проработал Иван Николаевич тоже не долго. Вскоре его поставили начальником райсельхозуправления.
Когда я пришёл на тракторную базу, председателем колхоза работал уже другой человек. Из той самой партийной когорты. Ячмень от гречихи он отличал. А вот сурепку от горчицы, пожалуй, что и нет. Как ни парадоксально, но все наши председатели оказались людьми крещёными. Крещёные сергианские коммунисты. И смех, и грех. Похоже, что никто из них не верил ни в Бога, ни в коммунизм. А жили, как и все вышестоящие - по революционной инерции. При Брежневе такая жизнь уже дозволялась.
При немцах и после них, церковь в Радьковке всё время работала. В Прохоровском районе и в соседних районах храмов больше не было. Советская власть все их сломала и нещадно порушила. В Радьковке же почему-то оставила. На показ, что ли? В школу я ходил мимо церкви и по субботам видел множество машин из разных районов. Люди привозили своих детей на крещение.
Поп жил богато. Ещё бы, столько вокруг треб. Почитай, он один на два, а то и на три района. Попов у нас ставили по партийной разнарядке. Я этому долго не верил. Да, отец родной подтвердил. Он много лет проработал председателем сельсовета и не однажды у попа угощался. Отец подтвердил правдивость одной байки, долго ходившей по нашему околотку. Кому сказать, так и не поверят.
А дело было так.
Сидели мужики на лужку возле церкви и потихоньку выпивали. Смотрят, идёт по дороге поп. И идёт тоже выпивший. Были бы сами трезвые, промолчали. А по-пьяни, оно и море по колена. Один из мужиков окриком и рукой подозвал батюшку. Батюшка не стушевался и подошёл к весёлой кампании.
Мужик и говорит ему.
- Что же это ты, батюшка, такой несознательный. Коммунизм на дворе грядёт, а ты всё культу служишь. Не хорошо, вроде, получается. Или, как?
- Или, как, - отвечает батюшка.
Мужики в недоумении вытянули хмельные лица, а батюшка им охотно поясняет.
- Я ведь коммунист, дети мои. И в храме служу по партийной разнарядке.
- Да, ну? – не поверили ему сходу колхозники. – Если коммунист, тогда покажи свой партийный билет.
- Глядите, - опять не стушевался батюшка.
Достаёт он из кармана свой партийный билет и смело показывает подвыпившим мужикам. Мужики и рты пораскрывали. Точно, коммунист! И документ в полном порядке. Краснее бы, так уже некуда. Посмотрели они, посмотрели и рты свои позакрывали. А батюшка положил красную книжицу на место и пошагал по своим делам дальше.
Укора не получилось. Да и что с сергианина взять? Хотя и сергианин сергианину рознь. Расскажу ещё одну историю.
Уже более печальную и поучительную.
В Журавке, когда только, только образовались колхозы, и церковь ещё стояла на своём месте нетронутой, служил священником мой дальний родственник и однофамилец - Фёдор Дмитриевич Балабанов. Слыл он человеком, едва ли не праведным. А так пуще того, слыл человеком справедливым и сильным. Жил отец Фёдор на хуторе Балабановка и жил очень бедно. Дал ему Господь много талантов, но без горестных испытаний и в его жизни не обошлось. Отец Фёдор долгое время служил дьяконом. Когда же советы пересажали всех священников, пришлось и ему подъять этот тяжёлый крест. Так и служил он в храме по милости Божьей. Голос у него такой, что и свечки гасли, и стёкла в храме дрожали. Силы - человечище – богатырской. Только с одной семьёй и неладно. Детей много и половина из них убогие.
Смирялся отец Фёдор и за всё славил Господа.
Колхозов тогда в сельсовете насчитывалось несколько. Иной раз и до десятка доходило. И председатель сельсовета имел власть великую.
Шёл как-то отец Фёдор мимо сельсовета. А в это время председатель вышел со своей свитой на крыльцо. Вышел с маузером и с красным лицом от самогона и сытой пищи. Весело председателю стало от увиденного на дороге попа и от силы своего могущества. Захотелось показать перед подчинёнными силу советской власти. Не зря же отец Фёдор на глаза ему попался.
Бес его уже за душу дёрнул, нельзя попа пропустить.
- Фёдор Дмитрич, - говорит отцу Фёдору председатель с крыльца. – Погодь-ка минутку.
Отец Фёдор остановился.
- Слушай, Фёдор Дмитрич, ты человек видный и в народе уважаемый. У меня к тебе есть одно предложение. И ты его выслушай. Бросай свой аллилуй и мы тебя сегодня же поставим председателем колхоза. А, Фёдор Дмитрич, бросай.
Нет бы, отцу Фёдору промолчать, да и идти себе своей дорогой дальше, но отец Фёдор не промолчал.
- Бросай ты свой аллилуй! – ответствовал он председателю.
Этими словами, сказанными при свидетелях, он и обрёк себя на мучительную смерть. Председатель сельсовета отцу Фёдору слов этих не простил и не посмотрел, что у него много убогих детишек и в доме страшная нищета. Составил нужную бумагу. И отца Фёдора вскоре забрали. Долго о нём не слышали никаких вестей. Уже перед самой войной, возвратился один сиделец, родом из Сеймицы и рассказал хуторянам, что мыкал он горе в Ташкентской области вместе с отцом Фёдором. С утра и до позднего вечера их лагерь работал в поле на хлопке. Пили воду из грязных арыков. Началась дизентерия. Не минула она стороной и отца Фёдора. Так и закончил он свои земные дни на коленях у земляка.
С его внуком – Толиком – мы стали большими друзьями. Жил он без отца, с тётей и матерью. И жил так бедно, что кроме кирзовых сапог на ноги и одеть было нечего. Хата, крытая старой престарой соломой, во многих местах протекала.
И накрыли её шифером только уже в девяностые годы.
Почему я пришёл на тракторную бригаду, а не на ферму? Объясняется это просто. Средняя школа дала мне профессию тракториста. В ней я и решил себя попробовать. К технике меня совсем не тянуло. Больше тянуло к бывалым людям. И трактористы входили в их число. От остальных колхозников они отличались осознанием своей значимости с дерзкой примесью независимости. За значимость и независимость приходилось расплачиваться, иной раз и свободой. Особо дерзких и независимых власть нет, нет, да и сажала суток на пятнадцать, а то и на полгода. Сажала и для показухи, и чтобы другим неповадно было. Случалось, что за большие провинности лишали свободы и на большие срока.
К семидесятым годам отток молодёжи из сельской местности завершился. Люди в колхозах на целое поколение, вдруг, стали старше. И процесс старения с каждым годом усугублялся всё больше и больше, вначале вызывая опустошение, а потом и окончательную гибель сёл, деревень и хуторов. Только на одном моём веку, пять окрестных хуторов стёрлись с лица земли.
И это в одной из лучших центрально-чернозёмных областей России!
Моё знакомство с трудовой колхозной жизнью началось значительно раньше семьдесят третьего года. После окончания четвёртого класса я, как и многие мои сверстники, пришёл работать на зерновой ток. Меня взяли грузчиком на бортовую автомашину. Самосвалов в колхозе почти не имелось, вот и разгружали мы зерно вручную. Целый месяц я лопатил зерно на току. Работа очень пыльная и тяжёлая. Но легче работы для нас не нашлось. Мы же и такой работе радовались. Нам казалось, что причастность к столь ответственному труду делает нас самостоятельней и значительно взрослее. Стремление стать взрослее удваивало силы. И понятно, почему. Быть маленькими уже всем надоело.
После уборки зерновых нас поставили на силосование кукурузы. Силосование пыльной работой не назовёшь. Скорее, наоборот. Силос - штука мокрая, но от того и не менее лёгкая. Надо заметить, что в колхозе, как и вообще, в крестьянском труде лёгких работ не существует. Всё приходится делать через силу и без облегчающих технических средств.
Россия, это вам не Германия [172].
В последующие летние каникулы мы уже считались едва ли не штатными колхозными работниками. Так, что трактор трактором [173] и база базой, а представление об общественном колхозном труде я и без тракторной базы уже имел капитальное.
Моё поступление на работу вызвало у земляков-колхозников смех и недоумение. Смех их понятен. Трактористы не считали меня ровней. Начальственное положение отца - тому причиной. Поэтому их смех был для меня весьма болезненным и унизительным. И через эту боль, и унижение ещё только предстояло переступить. Многие на тракторной базе годились мне в отцы, а некоторые годились и в дедушки. С их детьми и внуками я учился в школе или хорошо знал их по улице. И вдруг, на тебе, их дети и внуки в городе, а я здесь, с ними. Они не могли понять, почему это так? Все мои слова о скорой армии пролетали мимо ушей и казались им несерьёзным доводом. Армия армией, а колхоз, всё же, колхозом.
Бригадир тракторной бригады – Григорий Алексеевич Щендрыгин, как только я появился на базе, сразу определил мне фронт предстоящих работ. Подозвав к себе, он указал рукой на груду металла, из которого надо было собрать трактор ДТ-20 [174]. Задача понятна. А раз задача понятна, то вместе со слесарем, мы и начали её потихоньку решать. И, слава Богу, уже к обеду трактор собрали. Слесаря звали Семёном. Я его знал. Жил он на краю хутора Белозёровка, что у самого пруда. Раньше Семён работал на тракторе, но из-за постоянной нетрезвости его понизили до слесаря. Он мне показал, как надо управлять этим маленьким и примитивным тракторком.
До самого вечера я с удовольствием катался на нём, осваивая технику вождения и привыкая к новому для себя делу.
На следующий день, мы с Семёном нацепили на трактор толкающую волокушу и с его благословения, я поехал в поле сталкивать копны соломы для скирдования. Потом меня перевели на силосование, где поставили на более сильный трактор Т-38. После силосования я с неделю поработал на МТЗ-50 и уже, затем пересел на ДТ-75. ДТ-75 считался тяжёлым пропашным трактором и вместе с такими тракторами, как ДТ-54 и ДТ-74, он входил в обойму самых рабочих и необходимых для колхоза тракторов.
С началом осени нас перевели на посуточную работу. Сутки мы работали в поле, а после работы сутки отдыхали дома. Днём я косил кукурузу на силос. А вечером отцеплял кукурузный комбайн и навешивал навесной плуг. Затем всю ночь пахал зябь.
У моего напарника часто болела жена, поэтому приходилось работать и вместо него. Два часа ночного сна в тракторе мне хватало для восстановления сил.
Пахать землю я очень любил. Ночью трактор работает ровно. Горючая смесь ночью лучше обогащается кислородом. И дизельный мотор почти не чувствует нагрузок. Фары горят ярко. Паши себе, да паши. Круг проехал – видна прибавка к вспаханному куску поля. Результаты труда искать не надо. Вот они, прямо перед тобой. За ночь я вспахивал две нормы, чем приводил в раздражение опытных трактористов и бригадную учётчицу. Ей почему-то не хотелось правильно записывать вспаханные гектары и не следи я постоянно за результатами своего труда, она бы записывала их меньше. Прецеденты обмана уже имелись, поэтому и приходилось заниматься элементарной геометрией.
Но, как ни следи, всё равно нас обманывали. Не учётчица, так в конторе. Советская система, в этом смысле, везде одинаковая. И позже мне довелось в этом убедиться. Кто работал на простых работах, тот знает, что это так. А кто и сам обманывал людей, тот знает об этом ещё лучше.
В декабре месяце, из-за страшной распутицы, меня заставили отвозить на сепараторный пункт молоко молочно-товарной фермы. И отвозил я его до тех пор, пока не ударили морозы, и не замёрзла просёлочная дорога. А после Нового года, я поставил трактор на ремонт в центральную колхозную мастерскую. Там меня и нашёл учитель филиала Старооскольского сельского профтехучилища. Филиал этого училища располагался в здании бывшего колхозного радиоузла. Учитель набирал группу для обучения профессии механизатора широкого профиля. От количества учеников зависело его жалованье. Не первый год филиал действовал в нашем колхозе, выпуская механизаторов в окрестные колхозы и совхозы.
Я в этой профессии не нуждался, так как и так её уже прилично освоил. Но учитель предложил закончить филиал без отрыва от производства, пообещав платить исправно стипендию и выдать хорошую спецодежду. Он так меня долго и слёзно упрашивал, что я подумал, подумал и согласился. В конце концов, лишние девяносто рублей стипендии [175] и спецодежда не помешают.
До обеда я обычно возился со своим трактором в колхозной мастерской, а после обеда на пару часов заглядывал в здание бывшего колхозного радиоузла. Николай Иванович [176] интересно рассказывал о взаимодействии различных механизмов. Эти часы даром не проходили. Из рассказов учителя я узнавал много нового и полезного для работы. Теория с практикой приносила крепкие знания. Они не забылись и до сей поры. СПТУ я закончил с отличием. Однако аттестат об окончании получил не сразу, а уже после армии.
Ученики у Николая Ивановича набрались разные. Некоторые из них годились мне в отцы. По каким-то причинам раньше они не смогли получить профессию механизатора, хотя многие из них уже давно работали в этой профессии. Работали, кто кем. Кто прицепщиками, кто комбайнёрами или же трактористами. На перерыве они часто рассказывали различные истории. Одну из них я запомнил. Рассказал её тёзка учителя - Николай Степаненков из хутора Слобода, что недалеко от Радьковской церкви. Николай из всех учеников выделялся серьёзностью, если не строгостью. Лет ему исполнилось уже много. Обычно он молчал. А тут взял, да и разговорился. Его слова, как магнитом, притянули наше внимание.
Начал он так.
- Вот вы здесь всё болтаете попусту. Оно и понятно. Молодые вы. И угомона на вас никакого нет. Расскажу я вам один случай, произошедший со мной в аккурат после смерти Сталина. Так уж и быть, расскажу. А вы послушайте, да покумекайте, глядишь, опосля маленько и угомонитесь.
Николай неожиданно прервал своё вступление и стал отряхивать со стареньких валенок, замеченную только теперь полову. После его слов все разом перестали шуметь, обратив взор на старые престарые валенки Николая и в надежде услышать продолжение. Но Николай не спешил с рассказом, давая понять, что полова на валенках сейчас его больше занимает, чем напряжённые лица слушателей. Наконец, он закончил отряхивать валенки и, подняв голову от груди, тихо, как ни в чём не бывало, продолжил.
- Мыши и крысы проели стенку в хате, а глина, как назло, вся взяла и закончилась. Без глины в доме, не маленькие, сами знаете, беда. Выпросил я у бригадира ход и лошадку, да и поехал в глинище за глиной. Летом дело было, но ещё до жнивья. Еду я, значит, по дороге, а в небе жаворонки поют и стоит в поле такая теплынь, что впору лежать себе где-нибудь в холодке, а не волочиться на битой телеге за три-девять земель. Без глины оно и сейчас никуда, а тогда и подавно.
Рассказчик опять замолчал и снова внимательно осмотрел свои валенки. Но, на сей раз, он смотрел на них не так долго.
- Подъехал я к глинищу. Распряг лошадёнку. Стреножил её и пустил пастись. Корма в овраге не меряно, далеко не отойдёт. А сам, взяв лопату и ведро, спустился вниз. Женатый я уже был тогда. И двое малых деток имелось. Из-за них и полез в это провалье. Каждому хочется глинки белее. Вот и вырыли такую дырищу, что попервах в неё и лезть страшновато. Но деваться некуда. Полез. А если бы не полез, то спрашивается, зачем тогда и приехал, по такой-то жаре? Полез. Начал орудовать лопатой и выносить ведром глину наверх. Вылезу, посмотрю на свет Божий. Лошадь рядом с телегой пасётся. Тишь вокруг и благодать. Одни только жаворонки и шумят. Да, разве, ветер ещё. Душа немного успокоится, и лезу дальше глину долбить. Дело уже к концу приближалось. Вдруг, слышу, будто зовёт меня кто-то. Даже самому интересно стало. Кто же это меня так зовёт? Только, ведь, был наверху и никого не усмотрел поблизости.
Стану долбить, а он опять меня зовёт. Делать нечего, пришлось вылезать из дыры. Вылез, гляжу, а прямо у телеги стоит древний придревний дедушка. С бородкой такой и седой весь. Посохом мне грозится и говорит так: «Что же ты это, Николай, себя не жалеешь. Деток бы своих пожалел, что ли». И в это время, как ухнет в дырищи обвал. Аж, пылища оттуда дыминой пошла. Я обернулся на страшный звук, а когда повернулся обратно к дедушке, его уже и след простыл. Выскочил я из ямы и сколько ни глядел никого вокруг так и не обнаружил. Словно испарился мой спаситель.
Потом-то на иконах его рассмотрел. И знаете, кто это был? – и, не дождавшись нашего ответа, Николай сам пояснил. – Николай Угодник это был. Вот, так-то. Хотите, верьте, а хотите, нет. Только я и до сих пор живой. И за всё спасибо ему – Николаю Угоднику. Веры в вас никакой, да и сам я этим грешу. Но, что было, то было. А вы теперь сами покумекайте, глядишь, маленько и угомонитесь. Не всё так просто в этом мире, вот, что я вам скажу. Не всё так просто. Хотя это ещё с какой стороны посмотреть. Сурьёзности нам не хватает и веры. А если бы хватало, то и жили бы по-другому. Неужто наши предки дурнее нас с вами были? То-то и оно, что не дурнее. С этим вы спорить не станете. Церкви порушили, одна лишь в Радьковке и осталась. Святость же, как ни старайся, всё одно не порушишь. Как была она, так и осталась. И мой спаситель тому пример.
Николай умолк и сделав строгий вид, принялся снова осматривать свои валенки. После его рассказа, мы и, правда, немного посерьёзнели.
До следующего дня.
Самым важным начальственным звеном в колхозе [177] был и оставался бригадир комплексной бригады [178]. Разные случались бригадиры. В моё время, власть у бригадира оставалась ещё довольно большой. До председателя колхоза далеко, а бригадир вот он, рядом. По всем вопросам, к нему. Он и соломки осмолить порося даст. И если, что, то и зерна может подкинуть. Одним словом, бригадир на хуторах полноправный хозяин и без его веского слова ничего в околотке не решается, и решиться не может.
Разные случались бригадиры. Расскажу об одном из них.
За глаза его звали - «Афоня». Афонь в округе много. Поэтому, иногда ещё добавляли – «Афоня – бригадир». Крестили его Афанасием. Как и у всякого человека имелись у него родственники, кумовья, знакомые и друзья. Человеком он слыл строгим, а позднее я понял, что, на самом-то деле, был он человеком жестоким. Партийный билет, ясное дело, Афоня тоже имел. Без партийного билета такую должность получить затруднительно. Афоню-бригадира боялись многие хуторяне. И имелось за что. Жил он со своей семьёй рядом с магазином. И я его на всю жизнь запомнил.
Работал Афоня на бригадирской должности дольше других. И теперь трудно сказать, почему. Первая моя встреча с ним произошла ещё в детстве, до школы. Сидел я вместе с дедом Трофимом у речки и слушал его интересные байки. В отличие от меня, дед не просто так сидел, от нечего делать, он пас своих домашних гусей. Рядом колхозное ячменное поле. Ячмень уже в колосьях созрел, но до уборки очередь ещё не дошла. Поблизости никого из людей нет. Гуси вылезли на берег из речки и прямиком потопали в ячменное поле. Дед и я видели это. Но гуси свои и вокруг никого нет, вот дед и решил, пусть, мол, подкормиться стадо. Гуси-то ладно, что с неразумной птицы взять, только вот дед зря понадеялся на русское «авось». Оплошал малость старик. Если бы не Афоня, оно ничего бы и не произошло. Гуси наелись ячменя и потопали бы себе обратно в речку. Но Афоня тут тебе, как тут. Всё видит. Нет. Афоню на мякине не проведёшь.
- Трофим Иванович, твои гуси в ячмене? – спросил он деда, неслазя со своей новой рессорной линейки.
Смотрю, дед Трофим так перепугался, что и слова вымолвить не может.
- Нет, Афонь, не мои, - солгал он зачем-то бригадиру.
Бригадир слез с линейки и не долго думая, стал беспощадно убивать глупых гусей. Они бедные и разбежаться в стороны не успели. Да и как разбежишься по стоячему ячменю? Убил уже двоих или троих. Жалко стало своих гусей деду.
- Подожди, Афонь, не убивай, - попросил он жестокого человека. – Мои это гуси.
Афоня бросил убивать гусей и остановился.
- А чего же ты мне раньше не сказал, Трофим Иванович? Я бы и не стал убивать.
Я смотрю, врёт бригадир. Убивал бы и ещё, как убивал бы.
- Оторопь взяла, Афоня, - отвечает ему дед. – Устрашился я поначалу. Ты уж прости меня окаянного. Не передавай за потраву в контору.
- Ладно, не передам, - отвечает уже с линейки Афоня.
Как появился, так и укатил.
Гуси ладно. Гуси это еще, куда ни шло. Всё равно им по осени быть убитыми. На то они и птицы, чтобы их есть. А вот человек, это уже совсем другое дело. Человек не птица, а образ и подобие Божие. И убивать его - великий грех. За вязанку колхозной соломы убил Афоня человека. Правда, не один он убил, а со своими родственниками и кумовьями. Но сути содеянного зла, это не меняет.
При Хрущёве колхозную солому сторожили по ночам. Как же, такое добро. Не дай Бог, кто украдёт соломы и осмолит ею порося. То, что солома скирдами гниёт и в ней разводятся миллионы мышей, это ничего. Пускай себе гниёт и разводятся мыши. Это можно, а вот порося, без спросу, соломой осмолить нельзя, иначе - великое советское преступление!
Приехал из соседнего хутора человек за соломкой. Приехал на санях тёмной ночью. Надеялся тот человек утром осмолить поросёнка. Осмолил, если бы не Афоня со своими родственниками и кумовьями. Человек-то один, а их четверо – сильно подвыпивших «стражей» [179] колхозных. Бес в них вселился. И начали они того несчастного человека смертным боем бить-убивать. Как он ни просился, как ни умолял – ничего не помогло. Били до тех пор, пока и не убили. Ничего убийцам по советским законам не было. Сказать по правде и в суд на них никто не подавал. Как же, подашь, да и на кого подавать? На тех, кто «героически» вязанку колхозной соломы отстоял. В суд советский на них не подали, видно, памятуя о суде Божеском.
И суд Божий не заставил себя долго ждать. Свершился он ещё и на этом свете. Один за другим, убийцы стали ломать себе позвоночники. Кто на мотоцикле разбился, кто на машине или ещё как. Ни один из них не избежал Божьего наказания. Не избежал Божьей кары и Афоня, остаток дней своих, проведя в беспомощности и в инвалидной коляске.
Вот так-то идти против заповедей Божьих.
Зимой и ранней весной, помимо ремонта тяжёлых гусеничных тракторов, занимались мы ремонтом и всей остальной прицепной, и навесной техники. Ремонтировали бороны, культиваторы, плуги, сеялки, комбайны и всё, что требовало ремонта и технического ухода. Людей на базе работало много. Бывало, зайдёшь в конторку с улицы погреться, а в ней уже и дым коромыслом, и идут такие нешуточные разговоры, что поневоле заслушаешься. Наслушался я рассказов всяческих. И военных, и бытовых. И все не от пустого, праздного звука, а от пережитого на собственной шкуре времени.
Тут тебе анекдоты и споры. И всё, что душе угодно. Случалось, что споры переходили в потасовку. Особенно, если мужики в сильном подпитии. Язык часто не справлялся с нагрузкой, тогда в дело шли кулаки. Не без этого. Что было, то было. По моему разумению, у позднего среднестатистического советского колхозника на работе в голове крутились только две вопросительные мысли – чтобы такое украсть? И кому бы это после пропить? На тракторной базе ещё имелось, что украсть и находилось, кому пропить. Так, что с закуской и самогонкой перебоя в конторке не наблюдалось.
Безбожье пересказывать не стану. И так многогрешен. Но об одном интересном случае всё же упомяну. В конце зимы прибился к нам в конторку Максим Звягинцев. После обеда на улице разгулялась метель, а шёл он с дальней свадьбы. Шёл себе, шёл. Ну и зашёл вечерком по пути погреться в конторке. Погреться и с дороги передохнуть. До его дома оставалось ещё с добрых четыре версты. Максима Звягинцева знали и близкие, и дальние веси. Без него не обходилась ни одна уважающая себя хуторская гулянка. Будь то свадьба, проводы в армию или ещё что. Приглашали Максима из-за его виртуозной игры на баяне, гармошке, аккордеоне. Никто не мог лучше Максима сыграть и так, как он угодить грешной душе.
И пьяным и трезвым человеком, он выглядел всегда одинаковым. Во всяком случае, так свиду казалось. В душу ему никто не заглядывал и что там в ней, на самом деле творилось, то и мне неизвестно. Знаменит он был ещё и тем, что, возвернувшись с войны, Максим Звягинцев и дня не проработал в колхозе. Жил безвыездно в старой хибаре с какой-то женщиной, не то женой, не то дальней родственницей. С кем, конкретно жил и не поймёшь. В войну он воевал стрелком-радистом на дальнем бомбардировщике. И когда их полк стоял не так далеко от наших мест, то командир полка разрешил ему их навестить. Прилетал он со своим командиром на родину в гости. Конечно же, не на дальнем бомбардировщике прилетал, а на простеньком ПО-2. Побывка Максима Звягинцева надолго запомнилась хуторянам. Тогда его этот прилёт едва не закончился трагедией.
После колхозной выпивки и закуски, стали они по очереди катать на самолётике всех желающих прокатиться. Нашлось таких храбрецов мало, но всё же нашлось. При очередном полёте, ПО-2 зацепился колёсами за тополиные верхушки и рухнул прямо на выгон. Обошлось без жертв и даже ушибов, а вот от самолётика осталось мало чего. Лейтенант уже, было, вытащил пистолет, чтобы застрелиться, да общество не дало.
Сообщили о случившемся происшествии в полк. Приехал полковой «студебекер». Самолётные остатки погрузили в кузов и Максим Звягинцев вместе со своим лейтенантом поехали представать пред суровые очи начальства. Им грозил трибунал. Однако Бог миловал. Опытных лётчиков и не менее опытных стрелков-радистов в полку не досчитывалось, поэтому командир полка их простил, приказав лишь трижды слетать на бомбёжку Берлина. И не просто так слетать, а слетать без очереди. Это и стало их наказанием за тяжёлый проступок. Приказ есть приказ. Сказали: «Есть» и полетели.
Первый полёт прошёл удачно. А на втором их сбили. Со второго полёта и начал свой рассказ Максим Звягинцев - бывший стрелок-радист с дальнего бомбардировщика. А может и не совсем бывший. Мне показалось, что он и сегодня живёт теми же прошлыми военными днями. Начал он рассказывать далеко не сразу, а после длительного уговора механизаторов.
- Выпрыгнул я с парашютом один. Выпрыгнул в тёмную и дождливую ночь. Падаю, а сам не знаю, с какой высоты и куда. В голове всё перемешалось. И парашют долго не раскрывается. Правда, потом всё же раскрылся. Порывом ветра понесло меня по воздуху и вскоре приземлило на сжатое поле. Упал я на него удачно. Ни рук, ни ног не поломал. И даже не поцарапался. Случается в нашем деле и такое, хотя и редко. Погасил я парашют и стал искать место, куда бы его спрятать, закапать там или же утопить. Пока искал, дождь спустился пуще прежнего. Я и так промок до нитки, а тут прямо потоп, да ещё и с холодным ветром. Наконец, выбрался я на край поля. Забился под первые попавшиеся кусты и, плотно умотавшись парашютным шёлком, прилёг на траву и быстро согрелся. А, согревшись, не заметил, как и заснул.
Сколько спал, того не ведаю. Проснулся уже, когда рассвело. Дождь не перестал, хотя и заметно утих. Сбросив с себя парашютный кокон, я осторожно высунул голову из кустов и осмотрелся. Компас у меня с собой имелся и тот, что за полем, лесок указывал, как раз, туда, куда мне и надо, указывал он на восток. Ножом я вырыл в кустах яму и, прикопав и кое-как замаскировав парашют, рывками побежал к спасительному леску. До него всего метров триста, но по размокшей стерне дались они мне не так уж легко. За первыми же деревьями, я немного передохнул и потом углубился в лесную чащу.
За войну я уже потерял три экипажа. Этот - четвёртый. Так, что опыт возвращения в полк у меня имелся не малый. Случалось переходить линию фронта и раненым. А тут ни единой царапины, с полным боекомплектом, аптечкой и НЗ [180].
Одно лишь плохо. Сбили нас над Польшей, и пройти по вражеской территории предстояло не одну сотню километров. Ладно бы пройти по дороге. А то, ведь, по пересечённой местности и не днём, а тёмными ночами. Хорошо ещё, что на дворе ранняя осень. С голоду в пути не подохнешь. Грибов и диких фруктов в лесу навалом. Толку от них не так много, но жить и идти, всё же, можно. Я и шёл. Шёл ночами, а днём отсыпался. Отсыпался, где придётся. И часто сон этот сил мне не прибавлял. Дожди то прекращались, то начинались с новой силой. Попробуй, отдохни нормально по дождю. Непростая это, скажу вам, штука. Особенно, когда силы уже на исходе и подкормиться нечем.
Неприкосновенный запас я давно израсходовал и не помню, на какие там сутки. С недельку, может и продержался, но не больше. Человеческое жильё я обходил стороной. Вначале меня посещала мысль - зайти ночью к людям и украсть у них, что-нибудь съестное. Но потом и эта мысль пропала. Голод со временем притупился и мне стало всё равно. Что так или этак.
Иду, тащусь по лесу, а в голове, будто колокольный звон и будто хоры церковные поют. Ну, думаю, значит и мой конец скоро. Просто так хоры церковные петь не будут. Да ещё и со звоном колокольным. Верите, молиться стал. Вспомнил все бабкины молитвы. Иду, молюсь и крещусь. Всё одно скоро помирать. Так уж лучше так, чем никак. Пару раз натыкался на немцев. Но они меня почему-то не остановили. Приняли за полоумного, или ещё за кого. Пистолет я свой потерял. Шлем тоже. И со стороны выглядел вполне ненормальным. Мало ли таких людей бродит в округе и по лесам.
Однажды мне здорово повезло. Я наткнулся на покинутое волчье логово. Волки ушли, но после них осталась целая груда свежих костей. И на некоторых ещё оставались куски засохшего мяса. Не сразу я накинулся на еду. Понимал, что если наемся, то сразу умру. Начал я с костного мозга. Ножом стал расщеплять кости и высасывать из них живительный мозг и влагу. После первого же обеда меня сразу сморило в сон. День выдался по-летнему тёплым, поэтому я хорошо поспал. Проснулся заметно бодрее. Ещё попитался мозгами. Захотелось пить. Волки не глупые звери, своё логово они устроили недалеко от ручья. Напившись от пуза воды, я уже рискнул попробовать мяса. Попробовал. Выждал время. Вроде бы ничего. Желудок принял пищу и не взбунтовался. Захотелось мяса ещё. Появился волчий аппетит. Если раньше я высасывал мозг и сок из костей, всё больше, по необходимости, то теперь стал есть с огромным удовольствием.
Поем и обратно в сон. И так несколько раз за день. А ночью я забился в волчью нору и, несмотря на спустившийся дождь, проспал спокойно до самого утра. Четверо суток я не отходил от волчьего логова. За это время у меня прибавилось столько сил, что я смог продолжить свой путь дальше. Колокольный звон в голове поутих, но хоры пение своё не оставили. Иду и с ними тоже пою. Так и дошёл с церковными песнопениями до передовой. Проскочил её, не помню и как. Не останови меня солдатский патруль на разбитой дороге, так и дошёл бы до самой Москвы. Вот, так-то.
Максим замолчал. Вопросов ему не задавали.
В печке разгорелись дрова, но их жаркий треск человеческую тишину не нарушал. Потом кто-то осмелился и попросил его сыграть полонез Огинского. Максим, без лишних уговоров, открыл футляр с трофейным аккордеоном и, нежно взяв его в руки, сыграл. Сыграл так, что я ни до и ни после, никогда и ни от кого, не слышал такого или же подобного исполнения.
После войны Максим Звягинцев не проработал в колхозе ни одного дня. Всё ходил со своей музыкой по ближним и дальним хуторам, и утешал ею в горе брошенный народ. Кому-то это не понравилось. Как же так, всё играет и в колхоз ни ногой. И вот, однажды, к нему на хату заявилось всё колхозное начальство. Не одно заявилось, а с милиционером во главе. Для острастки, значит и так далее. Стали трясти его за душу: «Почему, мол? И зачем? И как же, мол, так, сукин ты сын, что ты не работаешь на родную советскую власть!».
Чтобы отстали подобру, поздорову, пришлось показать ему свои военные заслуги. Те, их, узрев, от удивления, аж, присели и ахнули. Одних только грамот от Верховного цельная стопа. А орденов столько, что и на весь колхоз хватит. Да ещё, каких орденов. Постояли они, постояли с раскрытыми ртами, да так и ретировались подальше от старой Максимовой хаты.
Перед самым призывом в армию выпало мне по очереди пасти коровье стадо вместе с Михаилом Шляховым. Жил он в соседнем хуторе и на несколько лет был старше моего отца. Я называл его дядя Миша. Сам Шляхов родом из Скоровки. После войны он женился на нашей хуторянке. Так с нею потом и жил в двухстах метрах от моей хаты. Вдвоём пасти коров хорошо. По весне травка зелёная и сочная. Коровы её с удовольствием поедают. Пасутся, пасутся, а потом ложатся и долго пережёвывают.
На одной из таких коровьих лёжек мы сошлись с ним вместе и разговорились. Он спросил о моих делах. Поинтересовался, когда идти в армию. И узнав, что в армию мне идти скоро, вдруг, начал рассказывать о своих молодых годах. И ещё о том, как он сам служил в армии, то есть воевал. За язык я его не тянул, дядя Миша и без моей помощи охотно разговорился.
Их семья жила особенно бедно. Так бедно, что каждую весну опухали от голода. Приходилось кушать даже речные устрицы [181]. От скудной жизни потянуло Михаила в Москву. Не просто так потянуло. В Москве жил его родной дядя. И когда Михаил подрос, с голодухи он и рванул к родному-то дяде на лучшие харчи. Дядя ничего, нежданному племяннику обрадовался и принял его в свою семью. Однако сидеть на дядиной шее Михаилу не довелось. Да, он и сам этого не хотел. Дядя работал водовозом. Развозил на лошадке по Москве воду в бочке. Пристроил он на такую же работу и своего родного племянника. Дело не хитрое. Наливай себе в бочку воду и развози её по домам.
За полгода водовозной работы Михаил в Москве пообвык, пообтёрся. Но совесть в городе ещё не всю растерял. Зачем же обременять гостеприимного дядюшку? По зову совести, он устроился на военный завод учеником слесаря. На заводе Михаила приметили. Там он быстро выбился в люди и стал почти самостоятельным человеком. Проработал год, второй. Только, только начал во вкус столичной жизни входить и тут на тебе - началась война. Пришла война, а с нею возвратились и былые невзгоды.
Продовольствие стали выдавать строго по карточкам. Тело молодое, требует много калорий, а еды не хватает. Как тут не задумаешься? Стал подумывать Михаил о фронте. Думалось ему, что бронь, оно, конечно, бронью, а вот только на фронте, должно быть, всё же получше кормят. Значит, нечего попусту и голову ломать - надо двигаться на фронт. Написал он одно заявление, второе…
И всё из-за одной только еды и написал. После третьего или четвёртого заявления, его просьбу уважили и призвали в красную армию. Пареньком он выглядел крепким. По крепости тела его и определили в миномётный взвод. Таскать на себе тяжёлый ротный миномёт не каждому солдату под силу. А ему ничего, сдюживает. К тяжёлой работе он с детства приучен, лишь бы кормили, как следует. Однако не тут-то было. Оказалось, что в армии с этим делом ещё хуже, чем на военном заводе. Может, на передовой с пищей получше? Задаёт себе последний вопрос Михаил.
А до передовой уже и рукой подать.
Немец так лихо прёт на Москву, что можно за сутки дойти и узнать, каково там, на фронте с солдатским питанием? Но один не пойдёшь. Да и красная армия, это тебе не колхоз. С вольностями в ней строго. Не пошалишь, брат. Остаётся одно - ожидать вместе со всеми приказа. Ждал Михаил, ждал. И, наконец, дождался. В январе сорок второго года их миномётный взвод направили под город Лугу.
По дороге на передовую, какая-то шальная бабка сунула ему в руку маленький свёрточек. Он положил его в шинельный карман, подумав про соль или ещё чего. А когда на привале развернул бумаженцию, то с удивлением обнаружил медный крестик с тесёмочкой, а на самой бумажке «живую помощь» [182] от руки аккуратно написанную. Зло его тогда взяло. Нет бы, краюху хлеба бабке сунуть! А то сунула несъедобное. Поначалу хотел, было выбросить бабкин подарок куда подальше, но потом передумал. Всё ж таки не на прогулку, а на войну топает. Отвернулся, чтобы комиссар не видел, да и надел себе крестик на шею. Молитву тоже в нагрудный карман положил. Чай, не миномёт. Ноша не тяжёлая и мозоль на груди не натрёт.
При подходе к линии фронта учуял Михаил варёное мясо. Его, аж, в дрожь бросило и сразу во рту помокрело. «Неужели померещилось? Нет, не померещилось». Смотрит, а за поворотом и правда сидят у костерка молодые солдаты и варят в котелках мясо. «Ну, - думает Михаил. - Не зря я сюда припёрся. Если солдаты варят в котелках мясо, значит, жить и воевать можно».
- Чего варите, братцы? – не выдержав, выкрикнул один миномётчик.
- Конинку варим, чего же ещё? – раздалось от костра.
От такого ответа Михаилу стало не по себе [183]. Конину от хорошей жизни есть не будешь. И точно. Хуже, чем на фронте его больше нигде не кормили. Попал он на, так называемую, «ледовую оборону». Немец на высотках сидит в тёплых блиндажах. Они сидят в промёрзших насквозь окопах. Немцев и советских разделяет широкая пойма ручья. Утром пехоту поднимают в атаку. Деваться некуда. «Ура-а-а!». А, что ура? Без артподготовки, без ничего и с одной голимой винтовкой. Много ли навоюешь? Немец всю пехоту с утра выкосит пулемётами. А ночью комиссар посылает к убитым за документами. Чтобы там, не приведи Господь, мёртвые не переползли к немцам. Людей в пехоте не хватает. Поэтому часто берут из миномётного взвода. Всё равно ведь мин нет и стрелять нечем. Остались во взводе лейтенант, старшина и Шляхов.
На следующее утро и они пошли в атаку.
Снова глупое «Ура-а-а!». И опять немецкие пулемёты…
- Бегу я, - рассказывает мне дядя Миша. – Дури-то ещё в ногах много. Глядь назад. А за мной уже никого нет. Один я, значит, пру к немцу. А немец-то не дурак. Стал он меня короткими очередями гонять по пойме. Весело немцу стало. Играется со мной. И ещё бы ему не играться. Ведь, не хуже зайца петляю. Только чую, осталось мне уже недолго петлять. Взмок весь и силы на исходе. Помогли кочки. Упал я за кочку и лежу. Нос высуну, а немец тра-та-та из пулемёта. Ни в зад тебе, ни вперёд. И морозище стоит такой, что вмиг с меня жар сбило. Думаю, не убьёт, гад, так замёрзну.
Мне-то, какая разница?
Высунул я свою дурную башку, а пуля, как шмякнет меня по лбу, аж, голову назад откинуло. В голове загудело, перед глазами круги, а смерти почему-то не чую. Больно же! Глаза я открыл. Смотрю, снег весь в кровищи. И глаза заплывают. Немец ко мне интерес потерял. Видел он, гад, что попал. Голову я кое-как перевязал и стал, потихоньку пятится назад. Везло мне и дальше. Попалась лощинка. В ней развернулся и пополз уже, как положено. Дополз до расположения.
В медсанбате меня на скорую руку перебинтовали и сразу отправили в госпиталь. Сказали, что пуля была на излёте, потому и не убила. Убить-то не убила, а кусок черепа вырвала. До мозгов одна плёночка оставалась. В госпитале меня потом на дурь проверяли. Вот, так-то. Столько народу перемололи в этой «ледовой обороне» и не сосчитать. На излёте. Дело прошлое. Теперь, вот, стою и думаю. А может и не на излёте вовсе. Может, это крестик бабкин, да «живая помощь» помогли, а? Ты-то, как думаешь?
Ничего я не ответил дяде Мише. Пожал только плечами. Да и за то, слава Богу! Мог, ведь, отдать предпочтение пуле.
Моя колхозная жизнь подходила к концу. В кармане уже лежала повестка в армию. Скажу по совести, с колхозниками расставаться мне не хотелось. В отличие от голодных мытарств Михаила Шляхова, в нашей бригадной столовой кормили превосходно. Сытно и вкусно кормили. Ешь от пуза и только давай, паши. Да и с деньжатами длинных перебоев не случалось. Правда, тратить их особенно не на что. Но это уже другое дело. Время пьяное и время сытное – названное потом – «вершиной застоя». Что рядом сверстников нет, я не очень задумывался. Со старшими товарищами жить и работать ещё интересней.
Мучило меня не это, а совсем другое.
Как раз в колхозное время, я начал серьёзно задумываться над советской ложью. Говорят и пишут одно, а в жизни наблюдаю другое. И наблюдаю не я один. Громкие и красивые свиду слова на версту расходятся с делом. Напрашивается логический вывод - надо что-то менять. А, вот, что? Того не знаю. Поговорить же и что подсказать, не с кем и некому.
Хутора…
Включишь телевизор, а там Брежнев на трибуне стоит. С умным лицом всё чмокает что-то. Его и слушать не хочется. Становится стыдно и за него самого, и за государство советское. Родом он, как и Хрущёв, из Курской области. Это потом уже стали писать, что родом Леонид Ильич из Днепропетровской области. Хрущёв знал, кого ставить на высокие посты. Землякам отдавал предпочтение. Но с этим земляком он, видно ошибся. До войны Брежнев окончил Дмитровский землеустроительный техникум [184]. И совсем малое время поработал землеустроителем. А потом уже пошёл дальше и выше.
В СССР должность определяла права, положение и материальную жизнь человека. Чем выше должность, тем больше прав и льгот. Это сейчас беззаконие вершат деньги. А при советах беззаконие вершила должность. От неё всё зависело. Секретарь райкома в своём районе мог посадить в тюрьму любого простого человека. Посадить только по одному телефонному звонку начальнику милиции или прокурору. На моей памяти, один прокурор не подчинился приказу секретаря райкома. Ну и что? Не знаю. Разве, что прокурору стало от этого легче? На следующий же день, он вылетел из своего прокурорского кресла [185].
Отличная квартира, хорошая дача, персональная машина, изобильное денежное и любое другое довольствие, в зависимости от должности, ещё и охрана. А все остальные, в районе иль области, от тебя зависят и перед тобой лебезят. Чего же не жить, такой-то роскошной жизнью! При Сталине высокая должность, при всём благополучии, гарантировала ещё и лагеря, правда, не всегда и не для всех. При Хрущёве уже нет. А при Брежневе высокие должности стали, чуть ли не пожизненными. Вспомните…
Разве не так?
О духовности я и речи не веду. Да и какая духовность при сатанинском-то руководстве? Когда в эшелонах власти царит безбожие, ложь, лицемерие и круговая порука, откуда же духовности взяться? Простые люди берут примеры с верхов, с людей авторитетных. Так, постепенно, все скопом и загниваем в грехе. То же самое творится и теперь. Ещё хужее творится.
Прости и помилуй нас, Господи!
Проводы в армию получились громкие. Вся тракторная бригада пришла меня провожать. Самогон льётся рекой. Столы ломятся от яств. Песни, пляски. Пожелания. До утра гуляли. Утром, с похмельной головой, меня сунули в машину и отправили всем колхозом в Прохоровку. Там уже собрались точно такие же, как и я, похмельные новобранцы. Обошлось без песен и плясок. Посадили нас в электричку и поехали мы в Белгород, на областной призывной пункт.
Оттуда уже потянуло строгостью.
И впереди замаячила армия.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. Армия
«Много замыслов в сердце человека, но состоится только определённое Господом».
(Притчи Соломона. 19. 21).
Служить советской власти привезли нас в Москву. Точно мы пока не знаем, куда. А сержанты почему-то молчат и ничего нам не говорят. Будто это такая страшная государственная тайна, что и слова нельзя вымолвить. Запихали нас в крытые брезентом грузовые машины и прямо с утра, стали катать по пустынным московским улицам. Чтобы прониклись, значит, ответственностью. Мол, не где-нибудь вам выпало, салагам, служить, а в самом, что ни на есть, сердце советской родины, в столице и городе-герое…
Ну и так далее, и понятно где.
Я в Москве впервые. Раньше дальше Белгорода и Харькова из дому не выезжал. Сижу, верчу головой. Интересно. И дома большие, и улицы широкие. На нашем хуторе улицы не такие широкие, да и хаты пониже будут. А люди здесь все разнаряженные, никак на свадьбу собрались?!
Красотища!
Почти до обеда катали. Потом куда-то повернули и вскоре привезли в строевую часть. В части нас сразу же погнали прямиком в баню. В бане мытьё, стрижка налысо и армейское обмундирование. Всё, как и положено по уставу. Обмундирование выдали согласно размерам. Всё новенькое. Блестит и топорщится. Молодого солдата видно за целую версту. Увидишь, не ошибёшься. Только нам ещё до такого понимания далеко. Мы – салаги и ровным счётом ещё ничего не понимаем. Мы сами – объект для понимания.
После бани нас ожидали сержанты и карантинные палатки учебного батальона [186]. По приказу командиров отделений мы пришили погоны и подворотнички, и узнали, что попали служить в отдельную мотострелковую дивизию особого назначения. Мой командир отделения сержант Бухтояров пояснил, что дивизия наша правительственная и что лучшего места для службы нет, и не может быть на всём белом свете. А о почёте уж и говорить нечего.
Почётней бы, да уже некуда.
На следующий же день в сержантских словах я сильно засомневался и начал серьёзно подумывать, а не перевестись ли мне, пока не поздно, в стройбат и даже спросил о технике перевода у сержанта Бухтоярова. После подъёма нас так долго гоняли по дивизионному плацу, что многие разбили и стёрли в кровь ноги. Гимнастёрка побелела от солевого пота, и служба стала казаться не малиной, а каторгой. Никогда раньше я не бегал так много и с таким ускорением.
Сержант Бухтояров ничего не ответил. Улыбнулся лишь очевидной глупости. У других же я не спрашивал. Сил на расспросы почти не оставалось, да и всем было не до меня. Потёртые ноги требовали повышенного внимания. Стёр ноги и я. Говорят, что правильная обмотка портянок – гарантия от потёртостей. Ерунда! Здоровье ног зависит не только от этого. Яловые сапоги [187] в сырости увеличиваются в размере. И как ты портянку не старайся наматывать [188], при длительном беге она всё равно собьётся с ноги. Тут бы её и перемотать. Но не станешь же перематывать без команды, и когда все остальные бегут. Беда ещё и в том, что разгорячённый бегом солдат, не слышит боли. Она приходит вместе с привалом.
Три или четыре человека из нашего взвода обратились за помощью в медсанчасть, но их оттуда прогнали с таким позорным треском, что у остальных сразу же отбило охоту обращаться к военной медицине за помощью. Так и продолжали мы бегать с распухшими и разбитыми в кровь ногами. После отбоя приходилось друг другу помогать, чтобы снять сапоги. Одному их не снять. За ночь опухоль проходила, а к вечеру ноги обратно становились больными и толстыми.
Через пару недель карантинной службы в батальоне стали появляться дивизионные «покупатели».
Мой хуторской приятель, служивший радиотелеграфистом в ракетных войсках стратегического назначения, настоятельно рекомендовал мне идти служить только в связь. В своих частых письмах он так лихо расхваливал свою службу в связи, что мне больше ничего не оставалось делать, как смиренно ждать спасительных посланцев от этой военной профессии.
Танкисты прошли. Артиллеристы тоже. А я всё бегаю по плацу, растираю в кровь ноги и терпеливо жду своих связистов.
Автомобилисты, химики, сапёры, мотострелки…
Наконец, появляются и связисты. Подполковник с майором. Чины высокие. Остальные «покупатели» приходили в меньших чинах. Отобрали они человек сорок.
И меня в том числе.
В отдельном батальоне связи, вместе с кандидатами из других частей, мы проходим проверку на профессиональную пригодность. Проверяют слух, внимательность, объём памяти, физическое состояние правой кисти, способность правильно воспроизводить напевы…
Далеко не все проходят эти испытания. Человекам десяти из нашей когорты не везёт, и их отправляют обратно в учебный карантинный батальон. «Отсеваются» солдаты и из других частей. Они тоже возвращаются в мотострелковые части. К своему удивлению, я испытания выдерживаю и вместе с такими же «счастливчиками», меня зачисляют курсантом учебной роты отдельного батальона связи.
В роте собирается ровно сто курсантов. Два учебных взвода по пятьдесят человек в каждом. Нам уже сказали, что первый взвод готовит радиотелеграфистов для работы на радиостанциях средней мощности. А второй взвод - малой мощности. В чём отличие, пока непонятно. В первом взводе, курсанты ещё получают и вторую профессию – телеграфиста.
Специфику и значение профессий мы узнаём значительно позднее.
Я попадаю во второй взвод связи.
Овладение армейской профессией, это не протирание галифе за учебным столом. Учёба в армии связана с огромными физическими нагрузками. Нигде так солдат не гоняют, как в учебных подразделениях. На исключения надеяться не приходится.
Нет исключений и для нас - связистов.
Нас гоняют даже сильнее других. Сильнее химиков, танкистов, артиллеристов и кого бы то ни было ещё. Тому подтверждение - наше третье место по армейскому кроссу на шесть километров, с полной боевой выкладкой среди всех учебных подразделений Московского военного округа. Такое происходит впервые за всю историю учебных подразделений, но оно произошло. За что нашему командиру роты досрочно присвоили майорское звание, наградили орденом «За службу родине в вооружённых силах» III степени и месяц спустя, повысили в должности, поставив его начальником штаба батальона.
Это произошло осенью.
А пока же мы только втягиваемся в курсантскую службу. И втягивание это даётся очень и очень тяжело. С карантинным батальоном и не сравнить. Тут я и вспомнил «добрым словом» советы своего хуторского приятеля. Ротный распорядок дня начинается и заканчивается, как и везде одинаково. Подъём в шесть ноль, ноль, а отбой в двадцать два. Казарма наша располагается на пятом этаже огромного гэобразного кирпичного здания. Справа и слева от прохода стоят койки. Два выхода. Один - главный и другой - запасной. У главного выхода стоит дневальный у тумбочки. Пол блестит и сияет словно зеркало. Вокруг ни пылинки и всё это благодаря нашему курсантскому старанию.
Сразу после подъёма выстраивается длинная очередь в туалет. Кто не успевает сходить по малой нужде, тому потом тяжело на физической зарядке и после. Мне кажется, что физзарядка проходит в невыносимо-сумасшедшем темпе. Вначале кросс на три километра, а потом специальные физические упражнения: отжимание, подтягивание на турнике, работа на брусьях…
До завтрака выделяется малое время на уборку казармы и личную гигиену. Времени мало, но мы успеваем. Завтракаем в общей столовой. Вместе с нами в этой же столовой питаются танкисты из отдельного танкового батальона, курсантская рота отдельного инженерно-сапёрного батальона и отдельная рота химической защиты. Кормят в столовой очень плохо. Но если бы только это. Главное, что и столь плохую пищу, мы не успеваем съесть из-за сержантской торопливости. Приходится доедать на ходу и у многих доесть на ходу не получается. То же самое происходит в обед и ужин.
Поэтому мы всегда голодные.
Однажды, неуставное принятие пищи заметил высокий военный чин - начальник штаба дивизии. От увиденного безобразия он вначале опешил, а после изошёлся весь яростью. Такого разъярённого человека мне ещё никогда не доводилось видеть. Полковник прямо взбесился. Он построил нашу курсантскую роту у столовой и приказал старшине бегом вызвать командира батальона. Когда насмерть перепуганный командир батальона прибежал и ему доложился, начальник штаба дивизии поставил его по стойке «смирно» и так беспощадно обругал, что мне даже стало жалко престарелого подполковника-связиста [189].
После такого показательного нагоняя, время на принятие пищи стало строго выдерживаться. А у хлеборезки появились мешки с ржаными солдатскими сухарями. Кто не наелся, можно брать с собой сухари. Берём все. Грызть их, правда, некогда и ещё почему-то стыдно. Грызём в нарядах и по ночам.
Учебные классы от казармы отстоят в двух километрах. Это расстояние мы преодолеваем, едва ли не на одном дыхании. В классах учим буквенные напевы морзянки и изучаем техническую часть радиостанций. Постепенно втягиваемся в приём радиотелеграфного текста. Хочется попробовать что-нибудь передать самому. Благо, передающий ключ у каждого под рукой. Но за попытки самостоятельно взяться за ключ наказывают нарядами вне очереди. Я уже два наряда «заработал».
И больше, что-то не очень хочется.
Учёба мне даётся легко. Гораздо хуже дело обстоит с физической подготовкой. Особенно трудно бегать армейские кроссы с полной боевой выкладкой. Таких «слабаков», как я, во взводе набирается человек десять. Чтобы не портить общий ротный показатель [190], младшему сержанту Краснову замкомвзвода приказывает проводить с нами дополнительные физические занятия. Младший сержант - командир моего отделения. Сам он родом сибиряк, рыжий и небольшого росточка. Нос немного вздёрнут кверху, в глазах всегда светится превосходство и презрение к нижестоящим курсантам. Умом человек не блещет, но зато с лычками на погонах. Для муштры и ему, и нам этого вполне достаточно.
Он строит нас после ужина и до отбоя, получив автоматы, противогазы и всё остальное, что положено по уставу, мы наматываем круги вокруг дивизии. За два с половиной часа успеваем дважды оббежать по периметру. Как всепогодные истребители, бегаем при любой погоде. Через два месяца такой муштры, мне уже не страшны никакие кроссы.
Каждую неделю учебная рота совершает марш-броски на двадцать пять километров. Марш-бросок я пробегаю гораздо легче кросса. Рота бежит двенадцать с половиной километров до стрельбища. Там мы отстреливаемся и затем уже бежим обратно в часть. Стреляю я всегда на отлично. Ни одного промаха и ни одной четвёрки. Вот только стреляю я с левой руки. Правый глаз видит плохо. А левый видит прекрасно. Вначале на неправильное расположение автомата сержанты обращают внимание и кричат мне, чтобы я приставил приклад автомата правильно, то есть к правому плечу. Я объясняю им, почему стреляю так, а не иначе. Объяснения сержанты не слушают и ничего не хотят понимать. Выручает сама стрельба. Мои отличные показатели в стрельбе их убеждают, что менять пока ничего не надо.
Замкомвзвода – сержант Александров, теперь всё время стреляет из моего автомата. Он полагает, что залог успешной стрельбы не в зрении, а вот в таком классном автомате. Автомат и правда, попался мне классный, только стреляет замкомвзвода, почему-то, всё равно хуже моего. Сержант – человек флегматичный и его это нисколько не раздражает. Все зачёты по стрельбе он уже давным-давно сдал и до дембеля ему каких-то полгода. Мы - последние в его служебно-учебной практике.
Специальную подготовку преподаёт прапорщик Реутский. Не простой прапорщик, а мастер спорта СССР по радиоспорту. Техническую подготовку ведёт командир нашего взвода старший лейтенант Черышев. Курица, как известно - не птица, а прапорщик - не офицер. Правда, на практике получается наоборот. И прапорщика Реутского мы уважаем больше старшего лейтенанта Черышева.
Командир взвода схож с младшим сержантом Красновым. Такой же маленький и такой же пренебрежительный с подчинёнными. Чувствуется, что он нас презирает. И за, что? Непонятно. Отличают его от Краснова тёмный волос на голове и звёздочки на погонах. Ещё, он менее разговорчив. И оттого всем кажется более строгим, и правильным. На самом же деле, наш командир взвода обыкновенный алкоголик. По утрам от него на версту разит перегаром, хотя он и старается спиртной дух чем-то зажевать. Вышестоящее начальство провести можно, только вот русского солдата не проведёшь.
После уверенного приёма, наконец-то, мы начинаем учиться передавать морзянку на ключе. С ключом работать, куда интереснее. Постепенно, скорость приёма и передачи наращивается и спустя четыре месяца после начала учёбы, мы уже можем сдать экзамен по специальной подготовке на третий класс. Но не всё так просто. Ведь, не одна только специальная подготовка в программе нашего обучения. Сдавать экзамены придётся по физической подготовке, политической, технической и ещё по химической защите.
Осенью учебную роту переводят в полевые условия. И мы снова окунаемся в палаточную жизнь. С наступлением холодов жизнь эта превращается в самое настоящее испытание. Пошли сильные дожди, а палатки протекают. Приходится ложиться в мокрые постели. Вода капает и ночью. Но мы этих неудобств не ощущаем. Физические нагрузки возросли и, едва моя голова касается подушки, как тут же я засыпаю богатырским сном. И ни дождь, ни холод сну моему не помеха.
У загруженного службой курсанта остаётся только два желания – поесть и поспать. Всё остальное даже не приходит в голову.
Я быстро сдружился с Евгением Шехалёвым и Николаем Банниковым. Все мы прибыли в учебную роту из одной части и как можем, помогаем друг другу. Сообща легче и веселее служить. Женька с Волги, а Коля Банников из Сибири. Труднее всех приходится Евгению. Он небольшого роста, плотный, но главное, что он городской. Бег для него, это всегда невыносимая каторга. И Коля, и я, на кроссах и марш-бросках, помогаем ему тащить автомат, противогаз, подсумки с автоматными рожками и гранатами. И всё равно, это мало помогает. Женька прибегает всё время последним.
Поздней осенью рота сдаёт выпускные экзамены. Сдаёт на отлично. О нашем третьем месте по кроссу я уже говорил. И с остальными экзаменами мы справляемся не менее успешно. Все мы тянем на второй класс [191], но нам присваивают только третий. Второй класс сразу присваивать не положено. На него надо сдавать через полгода. После сдачи выпускных экзаменов, мы разъезжаемся и расходимся по своим частям. Многим из нас уже не суждено больше свидеться. Ничего не поделаешь…
Такова армейская жизнь.
В родной части служить немножко полегче. С Женькой Шехалёвым мы попадаем в один экипаж. Через пару месяцев меня назначают на сержантскую должность, и у меня впервые за всю службу появляется свободное время. Я – начальник радиостанции. В моём подчинении: водитель и два радиотелеграфиста. Женька – старший радиотелеграфист. А сама радиостанция называется – Р-125, МТ-2М. Это автомобильная радиостанция малой мощности на базе автомобиля ГАЗ-66. Мы её называем «Эмтэшкой», а все остальные - «Кашээмкой», то есть командно-штабной машиной. Антенное хозяйство радиостанции позволяет держать уверенную связь на расстоянии до пятисот километров [192].
Как раз, в это время я записываюсь в полковую библиотеку. Библиотека очень большая. В ней много военной мемуарной литературы. Её я и начинаю читать. Читаю везде, где только возможно. В учебных классах, на дежурстве, в радиостанции, в техническом парке. Тема для меня новая и потому очень интересная. Офицеры читать мне не мешают. Скорее, даже поощряют. Кто-то пустил слух, что я собираюсь поступать в военное училище, отсюда и такая благосклонность.
Вскоре на моих погонах появляются лычки. И сразу по три штуки на каждый погон. Женьке присваивают звание ефрейтора. Он очень любит музыку. На наших армейских магнитофонах мой друг записал все известные заграничные группы [193]. Я в популярной музыке многого не понимаю, но не мешаю ему заниматься своим любимым делом. Впрочем, иногда и я слушаю концерты «Битлз», и других групп. Слушаю радиостанции: «Би-би-си», «Голос Америки», «Немецкую волну»…
Казарма наша четырёхэтажная. Первые три этажа занимает батальон связи, а на четвёртом этаже располагается полковая рота хозяйственного обслуживания. Такое соседство для связистов и для хозяйственников обоюдовыгодно. В роте хозяйственного обслуживания мы легко договариваемся о починке сапог, запросто вымениваем у них победитовые подковки, а, сдружившись с хлеборезами, получаем лишнюю порцию хлеба, кусочек сахара или сливочного масла. От нас же хозяйственникам достаются транзисторы, тонкая медная проволока и многое другое, что лежит на складе связи. А лежит там много чего. Было бы только умение и желание конструировать. Наш ефрейтор Мольченко сделал себе такую изящную электрогитару, что любо-дорого посмотреть. Ни в одном музыкальном магазине такой электрогитары не купишь. Я держусь особняком и кроме старых друзей по учебке, дружбы больше ни с кем не завожу. Да и некогда. Чтение и повседневная служба отбирает всё время.
В один из зимних дней мы заступаем в наряд по кухне. Старшина батальона прапорщик Павлюк назначается дежурным по кухне, а я его помощником. Прямо с вечера едем на машине за продуктами на дивизионный склад. Кроме прапорщика, меня и двух солдат, с нами ещё едет старший лейтенант из штаба полка – начпрод части. Это мой первый наряд по кухне и мне всё очень интересно.
Приезжаем к складам. Прапорщик, старший лейтенант и я заходим в низкое и жарко натопленное помещение. И прямо с порога, наблюдаем такую картину. За длинным столом сидят двое рядовых солдат и молча пьют чай. На наше появление они никак не реагируют. Ноль внимания. Будто нас и нет вовсе. На столе лежит двадцатикилограммовый брикет сливочного масла и высокая стопка коробок быстрорастворимого сахара. Рядом с сахаром, на краю стола пристроились три буханки свежего белого хлеба. Ни до и ни после, я никогда не видел таких справных солдат. Известное и всем знакомое понятие, как «кровь с молоком», сказано не иначе об этих людях. Загривки, как у львов, а лица прямо так и светятся от изобилия крови и пресловутого молока. Глядя на их упитанность и на столь вольные харчи, что так изобильно навалены на столе, поневоле позавидуешь армейско-хозяйственной службе. Держатся тыловые молодцы нагло и совершенно независимо. Спустя какое-то время, один из них спрашивает нашего полкового начпрода.
- Чего надо?
- Продукты приехали на полк получать, - отвечает подобострастно начпрод. И так отвечает, будто это не он старший лейтенант и начпрод, а вот этот вопрошающий солдат с мощным загривком и таким красным, и упитанным лицом.
- Так, получай, кто же его тебе не даёт?
- Как же мы без вас получим?
- Тогда обожди. Чаю вот попьём и выдадим вам, что положено.
«Да» - думаю я – «кому-то одно положено, а кому-то и куда больше положенного».
Делать нечего, стоим, ждём, когда солдаты насытятся. Они тут главные, а не мы. Глядишь, ещё осерчают, так и вообще, могут полк оставить без продовольствия. С них снеймётся. И у них везде, и всё схвачено. Мне, однажды, уже приходилось наблюдать, как простому свинарю из своей же хозяйственной роты хлеборез не выдал дополнительной порции хлеба.
Свинарь пожаловался. И пожаловался не кому-нибудь, а самому заместителю командира дивизии по тылу. Полковник приехал на новенькой «волге» и дал такого разгона начальнику столовой, что мало тому не показалось. После, недоумея, я спросил свинаря, каким же способом он приобрёл такого всесильного заступника? Свинарь посмотрел на меня внимательно и, видя, что я не шучу, а спрашиваю серьёзно, ответил.
«Ты» - говорит мне свинарь – «что, совсем с дуба рухнул или откуда ты ещё свалился? Как же он не будет меня защищать, если я ему каждый Божий день предоставляю молочного поросёночка. Видишь, у него вся рожа огнём полыхает. От хлеба и кваса рожа так ярко полыхать не будет».
Вот, так-то, вот.
Так и здесь.
Стоим, ждём. Хоть бы горячего чайку с мороза предложили, что ли. Но, куда там. Эти тебе предложат. Жди, не дождёшься.
Наконец, закончили они чаепитие и пошли мы за ними в склады. Продукты отпускают строго по норме. Ни грамма лишнего. Смотрю, а старший лейтенант выбирает лучшие куски, заворачивает их в пищевую бумагу и откладывает потихоньку в сторонку.
- Зачем вы это делаете, товарищ старший лейтенант? – спрашиваю я нарочито громко.
- Тихо, тихо, - отвечает мне начпрод. – Громко так не кричи, сержант. Это я не себе. Отложил всё для командира полка.
Привезли мы продовольствие в столовую и вот тут уже начался самый настоящий грабёж. Начальник столовой тащит себе. Его помощники себе. Тащат столько, что одному никогда не съесть. Значит, воруют не только для себя, но и для старших офицеров полка. А солдату уж, что останется.
Командир моего взвода связи - старший лейтенант Кузнецов выпустился из военного училища вместе с нашим комбатом. Комбат – подполковник, а он, до сих пор – лишь старший лейтенант. С командиром взвода мы часто играем в шахматы. Старший лейтенант – человек добрый и большой любитель этой древней игры. Играем, всё больше, на равных.
- Товарищ, старший лейтенант, это правда, что вы вместе с нашим комбатом учились в военном училище? – задаю я своему командиру вопрос.
- Правда, - отвечает мне взводный.
- А, почему же вы до сих пор в таком малом звании, а комбат уже подполковник?
Старший лейтенант отвлекается на секунду от шахматной доски и с улыбкой меня спрашивает.
- А ты разве сам не догадываешься?
Я пожимаю плечами.
- Я беспартийный, - поясняет тихо взводный. – Квартира у меня в Москве есть. Нормальная квартира. Жена ещё на заводе инженером работает. Так, что денежного довольствия нам хватает. Предлагали мне одну майорскую должность в Сибири. Но, сам подумай, не лучше ли быть старшим лейтенантом в Москве, чем майором в далёкой и холодной Сибири, а?
- Пожалуй, что лучше, - соглашаюсь я со своим командиром.
- То-то же, - закругляет нашу беседу старлей и двигает вперёд двумя пальцами пешку.
Старослужащие в батальоне имеются, но дедовщина отсутствует начисто. Радиосвязь – дело ответственное и эту ответственность не переложишь на чьи-то плечи. И от физических занятий тоже не увильнёшь. А их здесь предостаточно. Каждое воскресенье мы бегаем лыжные кроссы на десять километров. И раз в неделю у нас марш-броски на двадцать пять километров. Марш-броски до стрельбищного полигона и обратно. Так, что с «физикой», всё то же самое, как и в учебной роте.
Время тянется медленно, но оно всё-таки тянется, а не стоит на месте. Всем и мне, в том числе, очень хочется домой. Слёзы наворачиваются на глазах, когда видишь, как уходят на дембель твои старшие сослуживцы. Уже дважды я провожаю такими глазами счастливчиков.
И не только я один.
После первого года службы появляется уверенность в себе и вместе с уверенностью, в голову приходит мысль, что, пожалуй, одного года вполне достаточно и для родины, и для себя. Второй год мыслится лишним. Если раньше и имелись какие-то иллюзии о привлекательности армейской службы, то теперь они уже полностью улетучились. В принципе, что на гражданке, что в армии – везде одинаково. И там, и здесь царит одно и то же социалистическое клише. Только в армии оно сильнее выражено, так как втиснуто в жёсткие уставные рамки. Поэтому и кажется, что в армии чуточку больше порядка и дисциплины.
Впрочем, офицерам живётся не так уж и плохо. Молодых лейтенантов, прибывающих на службу после окончания училищ, поселяют в благоустроенное офицерское общежитие. После трёх лет службы, они гарантированно получают квартиры или в самой Москве, или в ближайшем Подмосковье. Кто быстро женится, тот легко может снять частную квартиру. Её стоимость частично оплачивает государство. Не лишены они и перспектив роста по служебной лестнице. Служба и столичная жизнь для многих офицеров привлекательна и престижна, поэтому подавляющее большинство из них служат на совесть. Офицеров связи отличает повышенная эрудированность и интеллигентность. Все они бывшие выпускники Кемеровского высшего военного училища связи.
Читать мемуары я не прекращаю. Их в библиотеке столько, что читать, не перечитать. Как ни странно, но никто из мемуаристов не ругает Сталина. Хрущёва поругивают [194], а Сталина всё больше нахваливают [195]. Вызывают недоумение огромные потери советских войск. Они несопоставимы с немецкими потерями. Как ни крути, а получается, что советские военноначальники воевали не по-суворовски. Воевали людей нежалеючи, то есть не умением, а числом.
Некоторые мемуаристы не скрывают своего происхождения от духовного сословия [196] и, если не положительного, то хотя бы и нейтрального отношения к православию.
Из дома пишет мне мама. И гораздо реже пишут брат и отец. Брату остаётся один год школьной учёбы. Из его писем ясно, что мечтает он о военной карьере. Не нюхал армейской жизни, потому и мечтает. Пытаюсь разубедить его в ответных письмах, но это мне далеко не всегда удаётся. Брат упрямится, полагая, что я ещё не всё хорошее в армии рассмотрел.
Мама все слова пишет в одну строчку. Читать её письма сложно, но интересно. Все её письма дышат материнской любовью и волнением за меня.
Восторженно-крикливая коммунистическая пропаганда не стыкуется с жизненными реалиями. И в армии это заметнее всего. В обществе процветает двуличная жизнь. Со стороны она смотрится неестественно-безобразной, искусственной. Большие дяди не живут нормальной, естественной жизнью, а словно играют в какую-то надоевшую и навязанную игру. Играть по старым правилам уже давно всем не хочется, но надо играть, потому, что иначе, якобы и жить нельзя.
А, вдруг, можно?!
Этот вопрос я задаю себе всё чаще и чаще. Армейская и московская жизнь [197] заставляет задуматься и усомниться в правильности, и чистоте советского строя. Если раньше, извлекая из колхозной жизни уроки недостатков и несправедливостей, я относил их, всё больше, на счёт локальных негативных моментов, то теперь начинаю понимать, что, на самом-то деле всё гораздо хуже. Эта заразная болезнь охватила не один мой колхоз, а всё общество. Даже мне становится ясно, что если болезнь вовремя не излечить, то социалистический строй сам себя полностью скомпрометирует и изживёт, и его ожидает неминуемый крах.
А как же тогда мы? И что ожидает нас дальше?
Месяца за три до окончания службы, в батальон связи зачастили различные «покупатели». Увольняющихся в запас всего двенадцать человек и с каждым из нас они ведут активную вербовочную агитацию. На каких только «покупателей» не насмотрелся.
Обо всех и не расскажешь.
Пожилой капитан из министерства иностранных дел предлагает мне офицерскую должность [198], благоустроенное общежитие, льготы при поступлении на заочное отделение в любой московский вуз, знание иностранных языков и так далее, если я соглашусь на его вербовку работать в здании министерства иностранных дел, в бюро охраны и пропусков.
Молодой лейтенант, с какой-то непонятной крылатой эмблемой в петлицах, предлагает сразу однокомнатную квартиру в Москве, обещает показать весь Советский Союз, намекает на отличное жалованье и командировочные в обмен на моё согласие стать начальником радиостанции на строительстве шахтных ракетных точек стратегического назначения.
Нет отбоя и от других, не менее заманчивых предложений. Так или иначе, все они связаны с охраной или же с секретной, а то и особо секретной службой в войсках связи. Никто из покупателей не обещает нам укоротить срочную службу. Если бы, кто их них предложил, то, может быть, кто-нибудь и согласился бы. А, так, дураков нет. Никами посулами не заставишь нас поменять родимый дом на, пусть и блестящее, но нечто другое. Знаем мы настоящую цену этим посулам.
Да и не всё то золото, что блестит.
Как ни стараются» покупатели», однако, никто из нашего призыва не остаётся служить дальше. Так все двенадцать и уходим из армии.
Дала ли мне что-нибудь хорошее и полезное для дальнейшей жизни армия?
Дала.
Она значительно расширила мой кругозор. Высветила многие моменты, которые, до службы в армии, были темны и далеко не совсем понятны. Армия сама себя показала такой, какая она есть на самом деле. Показала без романтических иллюзий и пропагандистских прикрас. В армии я научился более спокойно и даже не без доли иронии, смотреть на скучноватую советскую жизнь. Научился мыслить и анализировать осмысленное. Служба в армии меня закалила не только физически, но и что гораздо важнее, закалила морально-психологически. Она подготовила меня к гражданской жизни так здорово, что я почти не почувствовал и самой грани перехода от армейского состояния к гражданскому.
В последние полгода службы, наряду с чтением военных и военно-промышленых мемуаров, я увлёкся изучением истории КПСС. Увлёкся не просто так, ради простого любопытства или интереса, а в поисках истины. И как оказалось, увлёкся не зря. Потом это увлечение сослужило мне хорошую службу в институте. Благодаря крепкому знанию истории КПСС [199], я познакомился и подружился с одним очень интересным и опытным человеком, который на несколько лет стал моим учителем и поводырём.
Звали его Николай Тимофеевич Татьков.
И о нём речь ещё впереди.
Благодаря армии я стал легче и относительно свободнее ориентироваться в советском обществе. Проще говоря, армия научила меня выживанию в условиях тотальной советской лжи, родственно-начальственного блата и телефонного права.
Не будь армейского опыта, Бог весть, как бы сложилась моя дальнейшая судьба. Ведь, для многих людей разочарование в земной жизни часто является той самой непреодолимой преградой на пути и к Богу, и к продолжению самой жизни. Ничего не поделаешь. Слаб и немощен человек.
Отсюда и его постоянные срывы, падения и грехи.
За суицидными и иными смертными примерами далеко ходить не надо. Они у каждого перед глазами. Случались такие печальные примеры и за годы моей армейской службы. Не выдержав измены невесты, солдат застрелился на посту. Другой солдат застрелил своего сержанта. Сержант его так допёк, что бедняга не выдержал, взял, да и лишил младшего командира жизни. Ещё одного служивого задавил на учениях бронетранспортёр. А другого придавил в автопарке «Урал». Два человека погибли, выпив вместо спирта дихлорэтан. Выпили яд вчетвером, но двоих солдат успели спасти…
И это в правительственной дивизии особого назначения. Что же тогда говорить о дивизиях простых, где порядок и дисциплина намного ниже.
Политическая составляющая армейской службы надо мной особо не довлела. Она имела место быть. От этого никуда не денешься. И самой политической составляющей я ничуть не скрываю. Однако её место нельзя назвать определяющим или главным.
Политическая подготовка для всех нас, чаще всего, являлась той самой приятной отдушиной от повседневной солдатской жизни, на которой можно немного расслабиться, вздремнуть, почитать книгу или написать письмо домой. За такие проступки нас не особо-то и наказывали, прекрасно понимая, что где же ещё солдату расслабиться, как не на политической подготовке?
Офицеры-политработники, ведь и сами прошли через то же самое [200].
Замполиту разрешалось задавать любые вопросы. Этим правом часто пользовались сверхлюбознательные солдаты и сержанты. И далеко не всегда офицеры-замполиты могли на солдатские вопросы убедительно и толково ответить. Порой, не обходилось и без курьёзов.
Они случались, когда солдаты и сержанты превосходили замполитов своей эрудицией, лучшим знанием темы, более свободным, а не косноязычным владением русской речью [201].
На таких диспутах учился говорить и я. Армия подучила навыкам осмысления темы и стилистически правильного озвучивания мысли. Для многих моих сверстников, не служивших в армии, умение правильно говорить так и осталось за чертой [202] доступности.
В армейский период жизни пришло, пусть ещё и не совсем до конца осознанное, понимание всеобщей коммунистической девальвации. В середине семидесятых годов в партию вступали уже не по идейным, а всё больше по меркантильным соображениям [203]. В этот же период времени начиналась и новая, загнивающая коммунистическая эпоха, названная позднее «эпохой застоя». На фоне юношеской идеализации коммунизма, она выглядела крайне отвратительно. И не только для одного меня. Уже тогда в моей голове начали проблёскивать вопросы о том, как же с этой противной эпохой бороться?
Армия на всю жизнь запечатлелась в памяти. И это время я не хулю и не превозношу до небес. Оно было и прошло.
Демобилизовался я с большой радостью и с крепкой надеждой на предстоящую и куда более интересную жизнь. Оно и понятно, ведь, в двадцать лет любому молодому человеку будущее кажется светлее и гораздо лучше уже прожитого времени.
ГЛАВА ПЯТАЯ. Институт
«Вино и музыка веселят сердце, но лучше того и другого - любовь к мудрости».
(Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова. 40. 20).
Первая неудачная попытка поступления в вуз послужила для меня хорошим уроком. Ещё в армии я решил не мудрствовать лукаво, а, правильно взвесив и оценив свои силы, пойти по стопам отца. Тем паче, что профессия агронома мне всегда нравилась. Многое в ней я уже хорошо понимал. И это объяснимо. Ведь и сын сапожника знает, что такое сапожная дратва, сапожные гвозди или сапожный нож. И даже умеет потихоньку тачать сапоги. Точно так же и со мной. Как сын агронома, я имел понятие о севообороте, о наиболее лучших предшественниках. Разбирался в агротехнике выращивания сельскохозяйственных культур. Прилично знал сельскохозяйственную технику. Поэтому, выбор профессии, на этот раз выглядел не случайным, а вполне взвешенным и обоснованным. Важно было и то, что отец поддержал меня в выборе.
Легко справившись с вялым сопротивлением младшего брата, летом 1976 года, мы и поступили с ним в Курский сельскохозяйственный институт. Он - на факультет механизации сельского хозяйства, а я - на агрономический факультет.
Я никогда не любил, да и сейчас недолюбливаю города. Мне не нравится их воздух, шум, извечная человеческая спешка и толкотня. Не нравится асфальт улиц и площадей, каменные джунгли домов, автомобили, городская вода и еда. И ещё многое другое тоже не нравится. Я – человек от земли, им и остался. Плохо это или же хорошо – вопрос другой.
Курск – исключение из правил. Курск – единственный город, который я и до сих пор люблю. Может быть, потому что в нём остались мои лучшие годы. Может быть, ещё почему. Но это так и есть. Его-то и городом назвать трудно. Расположенный на холмах между двух рек, Сейма и Тускари, Курск больше походит на большую деревню, чем на город. Если отойти от городского центра, то сразу же уткнёшься в сплошные частные построения. И построениям этим несть числа.
«Кавказ», «Мурыновка», «Рышково», «Поповка»…
В наше время город немного расстроился. Но не так, чтобы слишком красиво и очень. Вполне узнаваем он и сейчас. В семидесятые же годы, только редкие церквушки, вкупе с дворянскими и купеческими зданиями, скрашивали унылые городские строения. Я ничего не знал о Серафиме Саровском и слыхом не слыхивал о Коренной Курской иконе Богоматери. Знаменский мужской монастырь советы превратили в кинотеатр «Октябрь» и, часто бывая в нём, я ничуть не догадывался о его православном прошлом.
Грешен, Господи!
Прости меня окаянного!
Город Курск за душу берёт не своей красотой. Нет. Город по-своему красив. Спору нет. Однако, такой красоты предостаточно и в любом другом старинном русском городе. Город Курск берёт за душу не видимым глазу чувством. Он берёт другим скрытным и невидимым. Берёт многовековой намоленностью и какой-то своей особенной и задушевной простотой. Это надо прочувствовать, а не прочитать или услышать. В Курске чувствуешь себя, будто на святом месте. Будто у последнего святого русского уголочка. И Бог весть, не оттого ли душа так и заходится в божественном трепете и ожидании доселе невиданного божественного чуда.
Это сейчас я так запросто анализирую и пишу. А тогда, в годы моего лихого студенчества, на осмысление душевного состояния и своей собственной жизни времени почти не оставалось. И ничто человеческое не было мне чуждо и не проходило, и даже не проскакивало мимо меня. Жил я, как и все или, во всяком случае, как многие. Учёба давалась мне легко. И дни летели стремительной чередой. А за ними летели недели, месяцы и года. Кто учился в советском институте, тот меня поймёт и с полуслова, а кто не учился, тому уже не пояснишь. Нельзя понять вкус замороженного яблока, ни разу его не попробовав.
Так и в подобном случае.
На первом курсе я познакомился, а немного позднее и подружился, со старшим преподавателем кафедры истории КПСС - Николаем Тимофеевичем Татьковым [204]. При высоком росте и тяжёлом весе, выглядел этот человек довольно колоритно. Николай Тимофеевич читал на курсе историю КПСС и в нашей группе вёл практические занятия. Мои знания истории партии и послужили причиной нашей дальнейшей дружбы. В прошлом, Николай Тимофеевич прошёл через сталинские лагеря, о чём свидетельствовала его зэковская татуировка на тыльной стороне ладони. Там всходило лучистое и почти всегда холодное Заполярное солнце.
После смерти Сталина и затем последовавшей реабилитации, он дослужился до институтского парторга. Но парторгом Николай Тимофеевич пробыл не очень долго. По завистливому навету, при Хрущёве его низвергли с партийных высот. Правда, на этот раз, низвергли уже не до лагерной зоны, а всего лишь до старшего институтского преподавателя. Падал он не один, а вместе с известным и заслуженным ректором института. Лагерная зона и потеря партийной власти не отразились на его мировоззрении.
Как ни странно [205], Сталина Николай Тимофеевич высоко ценил и жаждал возвращения к прежнему времени. Брежневской же властью он откровенно брезговал и едва ли на неё не плевался. Несмотря на уже преклонный возраст, в глазах бывшего лагерного сидельца и институтского парторга всё ещё горел задорный юношеский огонёк, и в душе его всё ещё теплилась надежда на грядущие перемены.
Похоже, что надеждой и ожиданием этих перемен он и жил.
Помимо преподавания истории КПСС, Николай Тимофеевич вёл в институте ещё и философский кружок. Надо ли говорить, что, с самого первого курса, аз многогрешный стал его активным, если не сказать, записным участником. И моё неприятие Брежневской власти, тоже послужило дополнительной причиной нашего идейного сближения. Николай Тимофеевич потихоньку, из-под полы, начал мне выдавать толстые партийные книги, запрещённые для всеобщего пользования. Тут я и узнал, что в СССР существует две правды. Одна правда - для коммунистов, а другая правда - для беспартийных.
Книги эти я не читал, а, образно говоря, проглатывал. И вскоре на базе прочитанных книг, личном житейском опыте и понятное дело, под руководством Николая Тимофеевича, у меня началось формироваться собственное мнение о советской власти, нынешнем советском руководстве и о причинах государственного загнивания или застоя. Когда человек видит или знает причины болезни, он начинает искать способы излечения.
Искал их упорно и я.
На втором курсе некоторые свои прозаические и поэтические мысли стал я записывать в толстую клеёнчатую тетрадь. Помните, имелись такие тетради, в девяносто шесть листов, кажется. К концу курса в тетрадке поднабралось многое. А на третьем курсе все эти записи я превратил в две статьи. Помню, гордился очень. Как же, великий аналитик родился. Долго я их под спудом не держал. Месяца через два не выдержал и показал тетрадку со статьями и стихами Николаю Тимофеевичу.
Кому же ещё?
Статьи посвящались перестройке партийной власти. Предлагал в них упразднить советы всех уровней и отдать управление промышленностью, сельским хозяйством, культурой и т.д., и т.п, коммунистической партии. Всё равно, ведь, она и так всё контролирует. А раз так, так пусть тогда за всё и отвечает. Предлагал ещё провести жёсткую партийную чистку и сократить партию с двадцати миллионов хотя бы до двух. Ратовал за искоренение телефонного права, родственного и начальственного преимущества. Писал о ликвидации льгот, бесплатном общественном транспорте и тому подобное. Многое из того, что потом говорилось и писалось в период Горбачёвской перестройки вошло в эти мои несчастные студенческие статьи.
Стихи же получились откровенно антисоветскими.
В них я жёстко критиковал нынешнее Политбюро, Леонида Ильича Брежнева и его окружение. Асфальтным катком прошёлся по партийным подхалимам и лизоблюдам. Сейчас уже из тех стихов не помню ни строчки. Но тогда они казались литературным шедевром.
Недели две не возвращал мне тетрадь Николай Тимофеевич. Возвращая же, отвёл меня подальше в сторонку и, сунув тетрадь в руку, тихо сказал.
- Знаешь, что, Балабанов, раньше я тебе, никогда и ничего не советовал. Всё, понимаешь, как-то не случалось повода. Теперь же посоветую. И прошу тебя, ты выслушай и послушай меня старика.
Николай Тимофеевич умолк, собираясь с мыслями и затем, так же тихо продолжил.
- В моё время, за эти твои антисоветские стихи, тебя, без суда и следствия, шлёпнули бы прямо здесь, в нашем институтском дворике. Шлёпнули. Тут и разговора лишнего нет. Про статьи же, ничего тебе не скажу. Может ты и прав. А мой тебе совет такой. Сожги, пока не поздно, эту тетрадь. Сожги и никому не вздумай показывать.
На том его совет и закончился.
И что вы думаете, последовал я совету своего старшего товарища и друга? Нет. Не последовал. На второй же день показал её Валерке Рожнову. Потом, кому-то ещё. И пошла моя тетрадь «гулять» по всему институту. Могла бы и исчезнуть. Но, почему-то, этого не случилась. Месяца через два она благополучно вернулась в мои авторские руки. Я забросил её в тумбочку. Там она и пролежала до поры, до времени. О тетради я вскоре забыл. Накатились другие дела. И стало совсем не до тетради. Да и что мне оставалось с ней делать? Не идти же со статьями в издательство! На дворе-то советское время.
Успешно сдав сессию за третий курс, укатил я вместе со своими друзьями-студентами в стройотряд. И без малого два месяца упорно трудился на строительстве колхозного склада ГСМ. А когда вернулся из стройотряда, заглянул в тумбочку, а заветной тетради-то и нет. Исчезла моя тетрадка. Ну, исчезла, так и исчезла. Не велика потеря. Так мне думалось.
На четвёртом курсе многие на нашем курсе стали жениться и выходить замуж. Пошли косяком студенческие свадьбы. Статьи забылись. Впрочем и стихи тоже забылись. В такой вот весёлой студенческой беспечности я и прожил до середины декабря 1979 года.
Тот день мне запомнился на всю оставшуюся жизнь.
С утра, что-то нездоровилось. И на лекции я не пошёл. Провалялся до обеда на койке. Лежал бы и дольше, да голод не тётка. Пришлось через силу вставать, быстро умываться и идти в магазин за продуктами. Магазин мы называли «профессорским». Мелочи в карманах набралось на цельную буханку серого хлеба и на банку кабачковой икры. Самая, что ни на есть, студенческая еда. Обладая таким богатством, я мог запросто продержаться на ногах до самого вечера.
А вечером, там уже расклад ожидался другой.
На улице меня встретили пронизывающий до костей ветер и промозглая декабрьская слякоть. Мороз на нуле. Облака мечутся по небу и едва, едва не цепляют за крыши домов. Снег превратился в кашу. На улице из людей никого. Одному только воронью и весело при такой погоде. Вижу и слышу, как они дерутся и кричат на открытой мусорке.
До «профессорского» всего две сотни шагов. Рядом с тропинкой шоссе. По нему движется автомобильный транспорт. В шофёрской кабине уютно и тепло, не то, что на улице. Можно ехать и ехать. Движение обыкновенное. На шоссе я почти не смотрю. Однако пришлось посмотреть.
Не успел я пройти и сотню шагов, как серая «волга» резко срезала угол и, пискнув тормозами, остановилась в метре впереди от меня. Всё произошло так быстро и неожиданно, что я даже немного опешил и с удивлением остановился. Открылись дверцы. И из дверного проёма выскочил плотный молодой человек с открытым удостоверением в руке. Удостоверение он сунул мне под самый нос. Сунул так близко, что я толком ничего не успел рассмотреть. Но и того, что рассмотрел, оказалось достаточно. Выскочивший из новой «волги» человек был капитаном КГБ.
Взяв за локоть, он подвёл меня к уже открытой второй дверце и без лишних слов передал своему товарищу. Тот уже ожидал меня. Подтолкнув на заднее сиденье, поближе ещё к одному своему напарнику, он и сам последовал за мной. Дверцы захлопнулись. И мы покатили по шоссе. Всё произошло быстро и без всяких слов. Как в кино. А то и лучше.
Я знал, где находится областное управление КГБ по Курской области. Туда меня и привезли. С тыльной стороны здания мы прошли в длинный подвальный коридор с дежурным прапорщиком у тумбочки. Тот, кто совал удостоверение мне под нос, открыл ключом обитую железом дверь и без церемоний запихнул меня в комнату. Дверь сзади громко захлопнулась. И сразу же погас свет.
Но комнату я успел рассмотреть.
Было бы, что рассматривать. Комната размером, примерно, три на четыре метра. Очень высокая. В центре потолка электрический плафон, забранный толстой, проржавевшей проволокой. Как в общественном душе. Даже на своём обычном месте клочок вбетоннированной решётки в полу. Всё вокруг бетонное и без единого окошка. Похоже на бокс или карцер.
На мне короткий изношенный полушубок. На голове кроличья шапка, выкрашенная под лису. А на ногах туфли с бумажным носком. Делать нечего. Присел прямо на бетонный пол. Думал ли я в эти минуты о чём? Наверное, думал. Только теперь уже не помню о чём. В душе, словно что-то оборвалось и постепенно надвигалась тревога. То, что оказался я здесь из-за тетради, сомнения у меня не вызывало.
Из-за чего же ещё?
Минут пятнадцать я просидел на бетоне. Неожиданно открылась дверь. Свет ослепил глаза. В комнату вошли трое.
- Встать!!! – последовала громкая команда.
Я встал.
- Лицом к стене и руки на стенку!! – приказали чуть тише.
Я повернулся, как и приказано. И смиренно положил руки на стену. Мне подумалось, что сейчас они начнут меня обыскивать.
Господи, как же я ошибался!
Полушубок и так короткий, а тут он ещё больше задрался, оголив поясницу. По ней я и получил резиновой дубинкой [206]. Удар оказался настолько мастерским, что меня всего пронизало электрическим током. Пронизало от головы и до кончиков пальцев. Шокирующая боль срубила меня начисто. Я как стоял у стенки, так и рухнул там же. Ударом о бетон мне разбило колени и на время, я потерял сознание. Бить они продолжали и дальше, но уже той первой сознательной боли я не чувствовал.
Позднее, вместе с сознанием, ко мне начала приходить ненависть и в душу стало постепенно вползать великое зло. Лёжа на бетонном полу и всё ещё избиваемый резиновыми дубинками, впервые в жизни я очень пожалел о том, что у меня пустые руки и нет в них ни автомата Калашникова, ни гранатомёта и никакого иного оружия. О! Если бы имелось в моих руках оружие! Я его жаждал так, как никогда в жизни. Я жаждал мщения. Мой маленький плюс к советской власти, с этим первым ударом, обратился в огромнейший минус. И из сочувствующего советской власти человека, желающего ей хоть в чём-то помочь, я превратился во врага этой власти, то есть в рьяного и непримиримого антисоветчика.
Били меня долго.
Хотя, после первого же удара, можно было и вовсе не бить. Наконец, они своё палачное дело закончили и ушли. Я снова остался один. Правда, теперь уже в ином состоянии. Подниматься с пола я не торопился. Понимая, что сделать это мне всё равно не удастся. Боль во мне всё ещё пульсировала и со временем, она то затихала, то возвращалась обратно с новой силой.
Через пару часов я смог перекатиться на бок. Смог без труда расстегнуть ширинку и попытался помочиться. Каково же было моё удивление, когда в брюках я обнаружил невольную мокроту. При других обстоятельствах, я сгорел бы от стыда.
А тут, знаете - мне и не стыдно [207].
Привезли меня часа в два пополудни. Пока вели, пока я сидел один, потом били. Прошло не более часа. И вот с трёх часов дня, и до десяти утра, я находился в этом бетонном мешке. Без еды и питья. Есть не хотелось, а вот пить мне хотелось страшно.
Ближе к утру я стал впадать в сонное забытье.
Думать больше ни о чём не хотелось. Да и злость моя немного поутихла. Сказать, что наступила полная апатия, не могу. Но, что наступило нечто подобное, это правда. Раньше я никогда и не думал, что в КГБ могут так бить. И бить, вообще. Били в милиции. Это я знал. Грешным делом и сам не раз убегал от милиционеров. А однажды с ними даже и дрался. По фильмам и книгам, госбезопасность отложилась в моём сознании, как ведомство более порядочное. И уж куда выше милиции. А тут, на тебе, такая страшная и прямо-таки роковая ошибка.
Ошибка во многом, но главная – в общественном строе.
В десять часов утра меня вывели из комнаты и повели на более высокий этаж к начальнику. У начальника на столе я и увидел свою тетрадку.
- Твоя? – кивнув на тетрадку, спросил хорошо одетый человек.
Я пожал плечами и без приглашения присел на свободный стул, что напротив стола.
- А ты возьми и посмотри, - посоветовал начальник.
Я взял и посмотрел. Мог бы не брать и не смотреть. Неужто я не узнаю свою тетрадь?
- Твоя? – переспросил хорошо одетый человек.
- Моя, - ответил я утвердительно.
- Как же так, сукин ты сын, - продолжил, но уже на повышенных тонах, начальник. – Отец коммунист, фронтовик-орденоносец. Ты учишься в лучшей кузнице советских кадров. И пишешь такую махровую антисоветчину. Знаешь ли ты, что за такую писанину мы тебя привлечём к показательному суду! Вызовем на суд отца и пусть он посмотрит и полюбуется на своё поганое детище!
Всё больше и больше распаляясь, и пошёл и поехал хорошо одетый человек. От его полукрика меня бросило в жар. Захотелось ответить. Зачесались кулаки. Чуть позже появилась мысль выброситься из окна. Только вряд ли здесь окна простые.
А начальник всё продолжал кричать и бесноваться.
- Кто ты такой! – кричал он уже, брызгая на стол слюной. – Подумаешь, аналитик, какой нашёлся! Что ты можешь знать о нашем соцстрое? Откуда у тебя в башке такие паршивые мысли? Как же ты мог додуматься о столь чудовищном сокращении партии?
Минут двадцать стращал меня хорошо одетый человек. И надо сказать, почти и застращал. Жалко мне стало родного отца. Если и правда, его вызовут на показательный суд, то он не выдержит такого позора. «Помрёт старик» - подумалось мне.
Выручил, однако, начальник.
- Две недели тебе сроку! Через две недели, чтобы и духу твоего в Курске и области не было! Не подчинишься, будем судить показательно!
Кому-то покажется удивительно, но из этого страшного здания я всё-таки вышел. И вышел не тылами, а через парадное крыльцо.
Как ни крути, а на дворе не тридцать седьмой год…
Вышел-то я, вышел, а вот, что делать дальше, ума не приложу. За своё битьё перед народом стыдно и что побывал в КГБ, никому не скажешь и ни с кем не посоветуешься. Учиться в институте мне оставалось чуть больше месяца. После зимней сессии всего месяц учёбы и потом полугодовая практика. А дальше уже защита дипломной работы. По раскладу начальника выходило, что заочного обучения он меня не лишал.
Однако в институте на заочное отделение меня не отпустили. Сказали, что уже подали документы в министерство сельского хозяйства о количестве будущих специалистов. И что я, как студент четвёртого курса, попал в это число. Все мои уговоры остались тщетными.
Я крупно поспорил с деканом факультета и вгорячах написал заявление об отчислении из института [208]. Декан меня долго упрашивал, но заявление всё же подписал.
Так я стал свободным человеком.
С городом Курском и со своими друзьями-студентами расставаться мне не хотелось. Душа очень сильно болела. Для многих, мой поступок стал неожиданностью. А для других… другие старались его не замечать. Наша группа особенной дружбой на курсе не отличалась. Жили, всё больше, каждый сам за себя. Отсюда и безразличие. Но от этого не становилось мне легче. Я-то любил их всех. И какое мне дело, что меня кто-то там недолюбливал или совсем не замечал?
Показательно, что в аэропорт пришли меня провожать всего лишь несколько человек из группы. Всех их я помню поимённо.
Студенческую жизнь на нескольких листках не опишешь.
Тут и тысячи страниц мало.
Помимо лекций и практических занятий хватало и иных, не менее интересных дел. На первом и втором курсе я занимался спортом. Вначале бегом, а потом боксом. Каждые каникулы помогал родному колхозу, работая на тракторе. Как только я появлялся дома, так следом, сразу же, появлялся и бригадир комплексной бригады. Трактористов в колхозе не хватало. И мой приезд становился для него едва ли не спасительным. Косил кукурузу на силос, убирал сахарную свёклу, пахал зябь…
Почти всегда, на колхозных «каникулах», я задерживался и приезжал в институт, когда уже вовсю шли занятия или факультеты работали в учхозах. Курский сельскохозяйственный институт считался одним из лучших высших учебных заведений в отрасли. Ведь, не случайно, Н. С. Хрущёв хотел на его базу прогнать из Москвы ВАСХНИЛ [209]. С горячих московских асфальтов поближе, так сказать, к родимой землице. И едва не прогнал. Останься он у власти ещё на пару лет, загремели бы доценты с кандидатами из столицы на курщину. Как пить дать, загремели бы. У Хрущёва особенно не побалуешь. Умел он не только стучать ботинком по ООНовской трибуне. А Москву и москвичей, как и большинство провинциалов, сильно недолюбливал.
И надо отдать ему должное, не скрывал этого.
Материально-техническая база КСХИ тянула на академическую. Да и профессорско-преподавательский состав нашего вуза находился на должной высоте. Поэтому и знания институт давал крепкие. Из его стен выходили не липовые, а самые настоящие специалисты. Другое дело, что этим специалистам потом на практике приходилось сталкиваться с невероятными трудностями. Но это уже не их вина. Политика партии на «вымывание» людей из сельской местности продолжалась. Стране, как воздух требовались свежие «бамовцы», подниматели «нечерноземья», чуть позже - «афганцы»…
Куда же против политики партии?
Институтская аудиторная теория прочно закреплялась на учхозовской практике. Только одной пахотной земли учебно-опытные хозяйства вуза имели на добрый сельскохозяйственный район. А сколько молочно-товарных и откормочных ферм, садов, учебно-опытных участков…
На агрономический факультет принимались исключительно сельские жители. И это правильно. Нам не надо было показывать и рассказывать, чем же отличается зерно пшеницы от ячменя или проса от гречихи. Мы уже многое знали, а некоторые из нас и умели. Кто-то уже работал на тракторе, кто-то дояркой. Имелись и такие, кто после окончания сельскохозяйственного техникума успели поработать бригадирами комплексных бригад, начальниками участков, бригадными, а то и главными агрономами.
Так, что не один я учился такой знающий.
Первые три группы на курсе состояли из будущих учёных агрономов, а четвёртая и пятая - из агрономов по химической защите растений.
Я учился во второй группе.
Старостой группы деканат поставил Лёшу Артамонова. Как-то так получилось, что мы с ним довольно быстро и крепко подружились. Многое нас связывало. И учёба, и спорт. Студенческая дружба, она особенная. Лёша, как и я, поступил в институт после армии. Сам он родом из Липецкой области. Село их и сейчас стоит всё там же, на том же самом берегу верхнего Дона.
После окончания второго курса, он женился. И будучи свидетелем на свадьбе, я увидел и оценил его малую родину. Воочию увидел знаменитую русскую реку, о которой раньше так много слышал. Один лишь месяц Алексей и пожил со своей молодой женой. Потом случилась трагедия и он погиб. Надо ли говорить, как тяжело я переживал его нелепую смерть.
И до сих пор, переживаю и каждый Божий день за него келейно молюсь.
Прожить жизнь на земле без скорбей, утрат и потерь невозможно. Это известно многим. Но, Господи, как же тяжело и больно их переживать! Долго я не мог отойти от смерти Алексея. В одно время, хотел даже бросить институт. Так мне было тяжело. Потребовалось много времени, чтобы оклематься, прийти в себя и обрести, хотя бы зыбкое душевное равновесие.
Со смертью Алексея, жизнь и учёба потеряли свою прежнюю притягательность.
Теперь вот мыслю, что, если бы не грядущие Севера, то, Бог весть, как бы дальше и жил.
Да и жил ли?
Во все времена профессия агронома считалась и почётной, и сугубо мужской. К концу двадцатого века в жизни многое поменялось, поменялось и отношение к профессии учёного агронома [210]. В нашей группе учились четыре девушки. В других группах, примерно, по столько же. На отделении защиты растений девушек училось значительно больше.
Мы их оберегали и относились к ним с особым почитанием.
В сельскохозяйственном институте я впервые в своей жизни столкнулся с евреями, с евреями-преподавателями. По правде сказать, долгое время я и не догадывался об их национальности. Когда же узнал, то моё отношение к ним ничуть не изменилось. Ну, евреи и евреи. Мне-то, какая разница? Из всего профессорско-преподавательского состава института евреи составляли меньшинство. И это понятно. Всё же не медицинский вуз, а сельскохозяйственный. Если их что и выделяло из общей среды, так это великолепные предметные знания и виртуозное владение преподавательской профессией.
Не всегда они находились на ответственных должностях. В нашем институте русские доценты и профессора занимали более высокие должности и иной раз, занимали необоснованно, то есть по качеству преподавания они уступали своим еврейским коллегам.
Евреи-преподаватели вели себя тихо и довольно скромно, выражая, едва ли не каждому студенту, свою любезность и всяческое почтение. Некоторые из них почти открыто искали для своих детей достойных мужей и жён. И мне это тогда казалось несколько странным, хотя и не особенно греховным. На нашем хуторе тоже многие родители занимались тем же самым, подыскивая своим чадам подходящую пару. И ничего удивительного в этом нет. Ведь, каждому родителю хочется, чтобы его родное дитя имело свою счастливую и прочную семью.
Русскому там или же еврею…
В этом смысле, родители все одинаковые.
На втором курсе я подрабатывал в трамвайно-троллейбусном парке слесарем второго разряда [211]. Работал по ночам и к занятиям не всегда мог чисто отмыть руки от въедливого мазута. На это потребовалось бы много времени и терпения. Откуда они у меня? По физиологии растений практические занятия в нашей группе вела ассистент кафедры физиологии растений женщина-преподаватель по фамилии Вайштельбойм. Имя отчество этой женщины, к сожалению, я запамятовал. Как-то, вызвала она меня к доске отвечать и, увидев грязные, мазутные руки, удивлённо спросила.
- Почему у вас руки такие грязные?
Я немного смутился от столь прямого вопроса и, опустив глаза долу, виновато покраснел.
- Простите, не смог отмыть. Это мазута, а она трудно смывается, - промямлил я в ответ
- Откуда она у вас?
- По ночам подрабатываю слесарем в трамвайном парке. Меняем часто трамвайные карданы. А на них много мазуты…
После этих слов, она тут же посадила меня на место и стала с увлечением рассказывать о том, как же тяжело им пришлось в эту войну. Как её семья спасалась бегством от немцев. Потом с большим трудом они эвакуировались за Урал. И всю войну прожили у приютившей их русской семье. Семья большая и самим-то кушать нечего, а тут ещё и они. Питались варёной брюквой и чем придётся.
Еле и выжили.
Мы с нескрываемым интересом слушали её задушевный рассказ, длившийся почти полную пару. По переживаниям и эмоциям он очень походил на рассказы наших родственников и родителей. В войну многим пришлось не сладко. Да ещё плюс наше советское воспитание. Так что, слёзные слова преподавательницы падали не на голые камни, а на хорошо подготовленную и удобренную почву.
Теперь же эта женщина-преподаватель по фамилии Вайштельбойм живёт почему-то в далёкой Америке. Другие, её соплеменники из Курского сельскохозяйственного института, тоже разбрелись по всему белому свету. Кто очутился в Израиле, кто, как и она, в Америке, кто-то ещё где. Как-то, рассказывал мне один русский профессор, что многие из них в письмах к нему плачутся и горько сожалеют о переезде. Детям ещё, куда ни шло. Дети быстро привыкли. А вот им тяжело. И климат другой, и менталитет непривычный. Да и жизненный уклад не слишком-то богатый.
Что ни говори, а в СССР им жилось несравненно лучше и много вольготней.
Потому и ностальгируют многие.
Кочующее жидовское племя…
На втором курсе неожиданно для многих ввели военную кафедру. Отдали ей всё правое крыло первого этажа головного институтского здания. Туда и вселились полковники вместе со своими майорами и подполковниками. Как ни хотелось стричься и снова подчиняться воинской дисциплине, но, однако, пришлось. В случае неповиновения, грозились даже отчислением из института. Куда уж строже. На всём нашем курсе один только Коля Лебедев и не подчинился. Учился с нами такой вольный русский человек. Красивый, стройный и неунывающий. Никогда и не подумаешь, что будто юродивый. Коле всё ни по чём. И ему многое, и не за такие проделки прощалось. Как с гуся вода. Простилось и на этот раз. Никто и не заметил, что он всё такой же вольный, весёлый и не стриженный. За бесстрашие, искромётный юмор, открытость и чистоту русской души, Колю все очень любили и уважали на курсе. И студенты, и преподаватели.
Особенно любили девушки.
Военная кафедра нас ещё больше разобщила. Кто не служил в армии, оказались в неудобно-приниженном положении. А кто служил, тех принудили быть опять простыми солдатами. На старые и заслуженные звания не смотрели. Старшина там ты или сержант запаса, никого это из старших офицеров не волновало. Становись в строй и начинай маршировать вместе со всеми. Первый год на военной кафедре предполагался солдатским, дальше учили на командира отделения и только последний год, посвящался умению командовать взводом. Полнейший абсурд. Из тех, кто служил в армии, многие уже умели командовать взводом.
Зачем же им начинать всё сначала?
Так называемые общественные дисциплины допекли нас и на общественных кафедрах, а тут ещё добавилось и на военной. Политическая подготовка, конспекты, полковник-замполит…
Как и почти все замполиты – странный человек. Без идейного запала и фанатизма, но достаточно властный и до предела странноватый.
Посудите уж сами.
Заходит он в аудиторию. Женя Крутых сегодня дежурный по взводу. Он громко командует.
- Взвод! Встать! Смирно!
Все разом встают. А Женя, он не служил в армии, Женька неумело подходит строевым шагом почти вплотную к полковнику и, глядя на него сверху вниз и при этом, непрестанно крутя своей длинной шеей, чётко и без сбивов докладывает.
- Товарищ полковник! Взвод в количестве тридцати человек к политзанятиям готов. Дежурный по взводу курсант Крутых.
Низкорослый, но довольно-таки плотный полковник от такого доклада морщится, словно от зубной боли. Затем наливается кровью и, заменяя букву «р» на «г», злобно шипит на Евгения. Шипение вскоре переходит в более ясные звуки.
- Кгутовский! – доносится до нас, наконец-то, отчётливо.
- Я не Крутовский, товарищ полковник. Моя фамилия Крутых, - сопротивляется Женя.
- Кгутовский! – пуще прежнего нажимает на своё полковник.
Женька тоже наливается краской. Мы все с интересом наблюдаем, что же будет дальше. К нашему сожалению, всё быстро разряжается. Полковник сдаётся и Женьке, и нам командует.
- Садитесь!
Мы садимся. Полковник подходит к столу. Открывает свой кожаный портфель и достаёт оттуда объёмную тетрадь с лекциями. Тема сегодняшних занятий - история Красной Армии. Замполит закатывает кверху глаза и начинает говорить, как же создавалась Красная Армия. Мы уже сто раз слышали, как она создавалась, но приходится слушать и в сто первый раз. Кто-то из нас зевает. Кто-то достаёт художественный роман и надолго выпадает из числа слушателей. Кто-то переписывает конспекты по земледелию. Полковнику всё равно, лишь бы сидели тихо. Постепенно он заводится, наслаждаясь своим красноречием.
- В годы гражданской войны, - самозабвенно читает лекцию полковник. – Из народной плеяды выдвинулись такие выдающиеся полководцы, как товарищ Блюхер, товарищ Тухачевский, товарищ Фрунзе, товарищ Колчак, товарищ Чапаев…
Я не выдерживаю и хмыкаю на всю аудиторию. Замполит, догадываясь, что сморозил, что-то явно не то [212], спотыкается и останавливается на полуслове. Его оговорку заметил не один я. Постепенно она начинает доходить и до других. Через минуту уже весь наш курсантско-студенческий взвод откровенно хохочет на всю аудиторию. Таких ошибок никто из нас, да ещё и такому властному замполиту, не прощает. Смеёмся долго и до самозабвения. А полковник, краснее прежнего, терпеливо ждёт, пока мы вволю не насмеёмся. После, как и ни в чём не бывало, он продолжает свою лекцию.
После смерти старосты группы, на третьем курсе, я серьёзно поспорил со своим руководителем дипломного проекта - доцентом Яковлевым. Спорить студенту с доцентом, да ещё и с заведующим кафедрой общего земледелия, себе дороже. Формально доцент был прав. Неформально же правым оказался я. Но не в этом суть. Наверное, во всём мире многие люди живут по известному принципу. Это когда, ты - начальник, я – дурак. А я – начальник, ты – дурак. Мне так жить не хотелось, потому и поспорил. Доцента моё поведение не на шутку разозлило и всё, что мог, он ко мне применил.
Исключил из числа своих дипломников, выгнал с кафедры и вообще, перестал на меня обращать внимание и замечать.
Общее земледелие – предмет специальный, а для нашего брата учёного агронома, так и вообще – предмет основной, хлебный. Знал я его капитально. Это-то меня на экзамене и спасло. Шёл же я на экзамен к доценту Яковлеву обречённо. Не рассчитывал даже и на удовлетворительную оценку. Уж, очень мы с ним сильно поспорили, а то и поругались.
В аудиторию запустил он сразу половину группы. В том числе и меня. Взяли молча билеты, сказали ему номера и сели готовиться отвечать. Я посмотрел в свой билет. Все вопросы вроде знакомые. Дабы не терять понапрасну время, попросился первым отвечать без подготовки. Всё равно ведь рассчитывать не на что. Нечего и терять. Доцент Яковлев разрешил. Не знаю. То ли настроение у него с утра случилось хорошее. То ли я его заинтересовал своими ответами. Читаю вопрос и отвечаю. Читаю следующий вопрос и тоже отвечаю. Говорю долго и обстоятельно. Словно, на последнем экзамене.
По билетным вопросам дополнительных вопросов он не задавал. А вот когда я закончил отвечать, тут они и посыпались. И вопросы все не из институтской программы по земледелию, а практические. Из колхозно-совхозной агрономической практики. Где он их только и набрал? Я-то, грешным делом, думал, что доцент всё больше теоретик, чем практик. Оказалось, что здорово в нём ошибался. Возможно, как и он во мне.
Наконец, я ответил и на последний его вопрос. Доцент Яковлев удовлетворённо откинулся на спинку стула, вытер чистым носовым платком со лба пот и, обращаясь почему-то к сидящему напротив Кольке Казакову, уставшим голосом произнёс.
- Это, Казаков, уже не студент, а настоящий агроном отвечает.
Затем, он быстро взял с общей стопки мою зачётку, поставил оценку и, закрыв её, показал мне рукой на дверь. Я забрал зачётную книжку и вышел из аудитории. Уже за дверьми любопытство меня пересилило. Интересно, что же он мне такое поставил? Ни на что хорошее я не рассчитывал. А тут открываю зачётку и с удивлением вижу, что стоит там - «отлично».
Однако далеко не все такие порядочные и справедливые люди, как доцент Яковлев, преподавали нам агрономическую науку. Попадались люди и иного морально-нравственного толка. Кто-то из них любил на студенческие деньги выпить. Кто-то предпочитал шоколадки или цветы. Со всеми мы находили общий язык. Студент, как и находчивый солдат, выкрутится из любого положения. Он нигде не пропадёт и сессию, так или иначе и худо ли бедно, но сдаст.
Учёба мне давалась легко. Гораздо труднее получалось дружить с девушками. В институте у меня открылась одна непонятная странность, которая препятствовала общению с противоположным полом. После очередного знакомства с девушкой, я тут же забывал её имя. Представьте себе, каково было девушке, когда её ухажёр не мог вспомнить, как же её зовут. Иногда дело доходило до полнейшего и смешного абсурда. И всегда мои оправдания, и объяснения оставались за чертой понимания.
На первом курсе я, как и большинство студентов, снимал угол на частной квартире. Общежитие дали только старосте, комсоргу и профоргу, а все остальные вынужденно разбрелись по частным квартирам. Хозяйка квартиры жила без мужа с двумя взрослыми дочерьми, нашими же студентками ветеринарного факультета. Она всё мне намекала на свою младшенькую доченьку. Звали её Маринкой. Нравился я хозяйке. И она прочила меня в свои будущие зятья. Однажды, Нина Васильевна, так звали хозяйку, отправила меня с Маринкой в кино. Хотите, верьте, хотите, нет, но, как только я вышел с Маринкой из дому, так тут же начисто забыл её имя. Вылетело из головы и всё тут. Иду с ней по дорожке, еду в троллейбусе, смотрю кино, иду обратно домой и всё никак не могу вспомнить Маринкино имя. Прямо хоть плачь. Так до самого дома и не вспомнил. И до сей поры, страдаю всё тем же недугом. Так вот и остался на всю жизнь без семьи, и в полнейшем одиночестве [213].
Не богопромыслительно ли?
Правда, много позднее выяснилось, что меня, даже и такого забывчивого, и неприспособленного к этой земной жизни, всё же полюбила одна девушка из нашей группы. Полюбила и всё стеснялась мне об этом сказать. А я ни о чём и не догадывался.
Призналась она в любви много позднее, но уже монаху.
В КСХИ учились студенты из Курской области и соседних Центрально-Чернозёмных областей. Но и не только из ЦЧО. На нашем курсе училось ещё по одному представителю Украины, Белоруссии, Армении и даже Чеченской АССР.
Акоп Буюклян, уже и тогда, приторговывал американскими сигаретами. Воха Чараев вёл себя тихо и скромно. Об отделении Чечни от России или особом статусе Чечни разговоров он никаких не вёл и вообще, считался на курсе тихоней и весьма порядочным, и уважаемым человеком. Занимался он слабовато, поэтому многие старались ему помочь. Михаил Гончар из Белоруссии и Владимир Яковлев из Донбасса ничем от нас не отличались, и входили в круг самых наиближайших друзей.
Студенческое время летело стремительно.
Как-то так получилось, что со временем все мне стали в группе родными и необычайно близкими людьми. Валерий Рожнов делился со мною своими первыми литературными и философскими работами. С Лёшей Сороченковым мы вместе ездили на секцию бокса. Занимались боксом на «Спартаке». От института до «Спартака» добирались почти через весь город. С этим видом спорта в Курске имелись большие проблемы, и поблизости с институтом других секций не наблюдалось. Впрочем, как и не наблюдалось Поветкиных [214]. Всегда голодные, но зато редко битые, возвращались мы в общежитие уже поздно ночью.
Николай Казаков, Николай Винокуров, Сергей Завдовьев, Пётр Рыбников, Александр Сергеев, Вячеслав Шулешов, Михаил Овчаров…
Друзей-товарищей много, но в аэропорт пришли меня провожать всего несколько человек из нашей второй группы. Ни мне, ни провожающим брату и друзьям, было и невдомёк, что расстаёмся мы не на одни сутки и не на один час, а на многие, многие годы. А с некоторыми я расстался и на всю жизнь.
Слёзы навернулись у меня на глазах, когда в иллюминатор, выруливающего на взлётно-посадочную полосу ЯК-40, я в последний раз увидел родного брата и провожающих меня друзей. Они махали мне снятыми шапками и что-то кричали, благословляя в неизвестность. Они не знали, да и сам я тогда не знал, и в мыслях даже не держал своего конечного пути. За первым и столь крутым жизненным поворотом оставалось многое: родители, детство, юность, армия, институт…
Не иначе, как по детской наивности, мне тогда казалось, что, уж чего-чего, а жизненного опыта у меня вполне достаточно. И что с ним, я нигде не пропаду. Впервые в жизни я летел в Москву на самолёте. И в который раз, снова ошибался в своих предположениях.
ГЛАВА ШЕСТАЯ. Севера
«Смотри на действование Божие: ибо кто может выпрямить то, что Он сделал кривым?».
(Книга Екклесиаста или Проповедника. 7. 13).
Когда разговор заходит о золоте, почему-то несведущие люди часто стараются придать ему какое-то особое, едва ли не мистическое значение. Я уже не напоминаю о тех множественных байках и небылицах, связанных со столь презренным металлом, названным, не иначе, как по человеческой глупости, благородным. При чём здесь пресловутое благородство? В истории человечества золото, наряду с алкогольными напитками и табаком, стало одной из причин великого множества человеческих смертей. Не станем же мы утверждать о благородстве водки и табака. А вот о золоте почему-то говорим с особым почитанием. Понятно, почему? Грешен и немощен человек. И алчность – лишь один из немногих наших грехов.
В СССР золото добывали почти всегда заключённые. Потому, что уж очень тяжело его добывать. А на каторжный, да ещё и бесплатный труд только одного несчастного заключённого человека и загонишь. При Сталине колымские Севера кишели такими людьми. Чем они занимались? Да, мыли золото. Чем же ещё? Ведь не случайно, то Сталинское время и до сей поры, держит рекорд по золотовалютным запасам СССР и теперешней РФ. Более двух тысяч тонн золота и платины лежало тогда в советских банковских хранилищах и запасниках. Нынешнее накопление по сравнению со Сталинским – чепуха.
И это при современной-то технике.
Воровали ли зэки золото? Или воруют ли его сейчас? Довольно часто бытуют вот эти вопросы среди несведущих людей. Конечно же, воровали и воруют. Как не воровать, при таком-то безбожном воспитании и такой мерзкой жизни? Другое дело, что воровство зэков и вольнонаёмных рабочих, это мизер по сравнению с воровством начальственным и воровством государственным.
Дело другое.
Но не о грехе воровства речь.
Севера меня поразили.
Поразили и навечно влюбили в свою неповторимую красоту, свежесть, девственную чистоту и Бог весть, во что там ещё.
Я не стану описывать перипетии своего перелёта в Якутск. Ничего не скажу о своих первых ощущениях от шестидесятиградусного якутского мороза. Не упомяну и о конфузе с туфлями, и бумажными носками. Не знаю, прилетал ли на Севера в таком виде кто-то и когда-то ещё или я стал первооткрывателем зимнего сезона. Не буду вам описывать гостиницу «Лена». Её и сейчас ещё можно посмотреть. Умолчу и о первых зэковских знакомствах. Не стану говорить, и о совершенно новых впечатлениях. И о том, невиданном и почти внеземном пейзаже, который окружил меня сразу же и так сильно поразил, и увлёк.
Множество бездомных собак и вольноиграющихся на морозе детей – один из основных признаков советских Северов.
Тогда я этого не знал и удивился их обилию, и количеству.
Севера меня поразили ещё в самом Якутске. Но гораздо больше они меня поразили и восхитили в старательской артели «Юрская, что на реке Юдома, по границе Хабаровского края и Усть-Майского района Якутии. Родненькие мои! Невероятно трудно описать Божье творение - Севера. Лучше один раз увидеть. Слава Богу, за всё! Мне невероятно повезло.
Я увидел.
Но уж, коль, в самом начале главы, я завёл разговор о золоте, то будет правильным его продолжить и дальше. Продолжить с тем, чтобы вы наиболее яснее и правильнее могли представить себе картину о золоте и способах его добывания в советское время. Из-за широты и глубины темы, подробности я опущу. Но и того, что поведаю, станется, пожалуй, достаточно. Не увидев и не пощупав своими собственными руками, и имея о золоте лишь магазинно-ювелирное представление, трудно понять суть этой темы. Но, с Божьей помощью, я постараюсь доходчиво вам всё пояснить.
Господи, благослови!
Золото всегда добывается из рудных и россыпных месторождений. Иных месторождений в природе не существует. Рудные месторождения, это когда геологи находят в сопке золотую жилу и после уже «промышленники» идут по ней в штольне, вырабатывая золотоносную руду «на гора». Руда затем отвозится на обогатительные фабрики, где измельчается и промывается.
Россыпные месторождения, это размытые рудные месторождения. За века и тысячелетия подземные и иные воды вымывают золотую жилу из горы в распадок. В распадке делается шурфовка, то есть та же самая геологоразведка. После разведки следует вскрыша или очистка земли до золотоносного слоя. И уже затем на вскрытом полигоне промываются золотоносные пески.
Прошу прощение за частые «Сталинские» повторения, но без них не обойтись.
Так вот, ещё в Сталинское времена были разведаны практически все золотоносные месторождения Северов. Работа была проведена настолько колоссальная, что непосвящённому человеку её масштаба трудно не только понять, но и представить.
Запасы золота - грандиознейшие.
В советское время добывалось только самое малосодержащееся золото. При тех промышленных мощностях, которые на Северах застал я, можно было легко удвоить, а то и утроить золотодобычу. Почему же этого не делали? Да, потому, что больше золота, чем уже добывалось, стране не требовалось. Это с одной стороны. А с другой, как ни парадоксально – для сохранности. Нет его лучшей сохранности, когда оно лежит в земле, а не на прилавках ювелирных магазинов или в хранилищах государственных и коммерческих банков. Наше историческое время только подтвердило столь очевидную правоту. Сколько сот тонн золота ушло, утекло за рубеж из государственных и иных банков нам неизвестно. Известно, что утекло его много и всё ещё продолжает, и будет утекать.
В советский период времени золото добывалось по-разному. В первоначальный период, оно добывалось почти исключительно системой ГУЛАГа. В Хрущёвское время перешли на золотодобычу государственную (но уже не гулаговскую) и артельскую.
При Сталине вольнонаёмным рабочим разрешалось добывать золото в одиночку и сообща (ввиде прообраза будущих старательских артелей), но потом такую золотодобычу запретили, якобы, из-за большой смертности первостарателей и утечки золота за рубеж. В уголовное законодательство страны оперативно ввели соответствующую статью, предусматривающую очень строгое наказание за самовольное мытьё или добычу золота.
Я прилетел в Якутск первого января 1980 года.
Восьмого января был принят в старательскую артель «Юрская» горнорабочим. О старателях, до самого последнего времени, я знал только из книг Джека Лондона. И вообще, по наивности и невежеству думал, что в наше время никаких старателей не существует.
Видит Бог, как я ошибался.
После Хрущёва в золотодобыче страны практически ничего не менялось. Менялась только техника, да и то, незначительно. К восьмидесятому году старательские артели настолько окрепли и так количественно возросли, что львиный вес всей золотодобычи приходилась уже на их долю. Каторжный труд и полное бесправие советских старателей компенсировались относительно высоким, но далеко не гарантированным жалованьем. Количество денежных знаков в карманах советских старателей напрямую зависело от начальственного благосклонства и веса намытого ими золота. И того, и другого не всегда получалось в избытке.
В самых известных и удачливых старательских артелях, на одно рабочее место претендовало до шестидесяти специалистов и больше. При таком конкурсе, попасть на работу в артель я не имел ни единого шанса. И, тем не менее, старателем я всё же стал. Приняли меня в артель по воле случая. На новый год кочегары обеих поселковых котельных перепились и разморозили систему теплоснабжения. Такое происшествие на Северах - смерти подобно. На улице шестидесятиградусный мороз, а котельные стоят на ремонте. Шахтоуправление и вездесущий партком, дабы избежать огласки и надвигающейся трагедии, поручило отапливать посёлок старателям. В шахтоуправлении и парткоме сидели не самые глупые люди. Они прекрасно понимали, что, поручив эту работу старательской артели, можно теперь не беспокоиться за поселковое отопление.
Откуда такая уверенность?
Да, всё оттуда же. Из Сталинского прошлого времени. Для старателей, как и для советских зэков, не существует работ невыполнимых. Председателем старательской артели «Юрская» работал бывший заместитель начальника колонии по режиму [215]. А сама артель на девяносто пять процентов состояла из бывших уголовников-рецедивистов. На все советские зоны тем артель «Юрская» и славилась, что решившим завязать с уголовным прошлым людям, она давала возможность внеконкурсного приёма на работу и столь перспективного денежного довольствия. От освободившихся рецидивистов в артели отбоя не было.
Зимнее и особенно новогоднее время – время отпусков. Лишних старателей для отопления посёлка в «Юрской» не оказалось. И тут, будто палочка-выручалочка, садится наш борт [216] с рабочей силой. Отсеяв половину прибывших, председатель артели выбрал самых молодых и сильных. В их числе очутился и я. Он не посмотрел, что у меня нет трудового стажа и что я не специалист [217], а всего лишь бывший студент. Последнее обстоятельство неожиданно сыграло мне на руку. Оно вызвало благосклонный начальственный смех и дало мне громкое, а по зэковским понятиям, ещё и почётное прозвище.
На многие месяцы прозвище [218] - «Студент» стало моим основным именем.
Не случайно председатель артели отбирал в котельные самых молодых и здоровых людей. Представьте себе, вместо двенадцати кочегаров по штатному расписанию, нас работало в котельной только четыре человека. По двое в смену. Смена - двенадцать часов. Без праздничных и выходных дней. Месяц работаем в ночь, месяц трудимся в день. Председатель артели на прощание нам сказал: «Справитесь, весной отправлю на участки. Не справитесь, отправлю на материк [219]».
Я не понимал всей сложности своего положения. А если о чём и догадывался, то догадывался весьма смутно и уж совсем не придавал значения тем воровским законам, по которым жила старательская артель. Конечно же, при такой плотной насыщенности бывшими зэками-рецидивистами, по другим законам артель жить и не могла. Но мне-то, какое до этой жизни дело? От зоны старательская артель «Юрская» отличалась лишь относительной свободой передвижения и полной расконвойкой. Колючей проволоки и вышек поблизости не наблюдалось, а всё остальное точно такое же, как и в исправительно-трудовой колонии, да ещё и с бывшим начальником оперативно-режимной части во главе!
Для человека с воли или по ихнему - фраера, воровская среда самая, что ни на есть, неподходящая. Без жаргона и знаний воровского закона, дни мои, так или иначе, оказались сочтёнными. Вопрос времени – не главный вопрос. Я этого, по понятным причинам, не знал.
Но, слава Богу!
Выручил напарник.
Он пояснил.
Василий Семёнович Бантыш, а по блатному - «Генерал» – мой напарник, успел пройти приличную зэковскую школу. И не только её лишь одну. Правнук царского генерала, он, отслужив срочную службу в десантной разведке, вскоре попал на среднеазиатскую зону. В СССР среднеазиатские зоны считались одними из наихудших. В одной из таких зон Узбекистана Василий Семёнович и отсидел свои, положенные законом пять лет. Старше меня на каких-то два года, тем не менее, Василий Семёнович уже обладал той житейской мудростью, до которой мне и теперь ещё так далеко.
Как-то, за кружкой крепкого чая [220], он мне скупо, по-братски, сказал.
- Студент! Спору нет. Мужик ты здоровый. Да и фраерок, чую, правильный. Какой уже день одну пайку вместе хаваем и один уголёк в топки бросаем. Присмотрелся я. Пойми ты меня! Не с руки мне тебя хоронить. А, всё одно, ведь, придётся, - тут он сделал небольшую паузу, затянулся папиросой и после продолжил. - Без нашей фени [221] и знания воровских законов, пропадёшь ты в зэковском омуте. Как пить дать, пропадёшь. Ставлю рубль за сто. Не в этой бичарне [222], так на участке. Здоровье тебе не поможет. Даже и не мечтай. И не таких бугаёв на тот свет отправляли. Сунет кто-нить под рёбра заточку, аль шильце - семь на восемь, восемь на семь и нетути твоего здоровья. Сутками из-за него на стрёме [223] не простоишь. Так? Так. Короче, Студент. Базар [224] мой к тебе будет конкретный. С сегодняшнего дня стану учить я тебя и по фене ботать [225], и нашему воровскому закону. И ты не упрямься, и не супротивься. Для твоей же пользы. Пораскинь-ка своими учёными мозгами. Зря, что ль учили тебя столько времени в институте. Жизнь твоя лежит на кону. Так? Так. И припотелому мерину понятно, что так. Учись, Студент, пока есть у кого. А после, за мою науку ещё и «спасибо» скажешь.
Случился сей монолог недели через две после трудоустройства. К этому времени, я уже кое-что в артели подметил и для себя уяснил. Скажи мне Василий Семёнович эти слова раньше, я бы его не послушал. Упрямство вкупе с гордыней воспротивились бы послушанию. Впрочем, Василий Семёнович знал, когда надо молчать, а когда говорить.
Потому-то слова моего более опытного напарника упали на подготовленную и хорошо вздобренную почву.
С его слов и началась моя учёба. Что ж, условия для неё - самые подходящие. В дыму и копоти, саже и каторжном труде. Под карточные старательские разборки и папиросный дым. Частую пьянь и наркоту. Поножовщину и даже стрельбу…
Впитывал я крупицы воровских знаний, открывая для себя один из самых грязных и грешных пластов человеческого бытия.
И за четыре с половиной месяца впитал так, что потом никто из бывших сидельцев нашего старательского участка и мысли не допускал, что у меня нет судимости. Василию, за его уголовную науку, я по гроб жизни обязан. Жаль, что понял я это много позднее. Воровские законы, возможно и не самые худшие в мире. Я с этим не спорю. Законы крепкие и они не прощают ошибок. Посудите сами. Даже одно, неверно сказанное, слово, может стоить оратору жизни. Кто-то из вас, наверняка, слышал такое выражение, как - «фильтруй базар». Это первое предупреждение.
И второго, чаще всего, уже не бывает.
У меня нет никаких человеческих претензий к старателям-рецидивистам. Хотя, в первый же артельский день, они и украли у меня новые, ещё ни разу ненадёванные валенки. Купил я их по случаю взамен курской обувки в Якутске. Но это, пожалуй, одна единственная ошибка или оплошность с их стороны. В дальнейшем ничего подобного уже не случалось.
Мой авторитет рос, а вместе с ним росло и уважение.
Люди остаются живыми людьми в любой ситуации. И в тюрьмах, и в исправительно-трудовых лагерях тоже находятся живые люди. Со своими проблемами, радостями и печалями. Ничто человеческое не чуждо и в тесном узилище. Писатель-сиделец Варлам Шаламов, в своих потрясающих душу «Очерках преступного мира», об уголовном мире сказал предельно достаточно и как никто другой, сказал правильно.
К его словам, по существу, мне добавить нечего [226].
И всё же, рецидивист на свободе отличается от своего собрата в неволе. На свободе такой человек выглядит менее защищённым. Он более закрепощён. А его попытки обрести понимание среди окружающих вольных людей, кажутся иногда детскими. Да и сам он напоминает больше взрослого ребёнка, чем нормального человека. Хотя о нормальности не грех и поспорить.
Председатель артели сдержал своё слово. И в мае меня и ещё нескольких счастливчиков, отправили на вертолёте в горы. А Василий Семёнович, как непревзойдённый специалист остался на центральной артельской базе автослесарем. Мне повезло больше, чем ему. Всё ж таки, подальше от высокого начальства. Из шестидесяти человек старательского участка только двое не имеют судимости. Я и наш сварной - Коля Замотаев. Коля убежал от судимости. Но на статистику и на его статус это уже не влияет.
Горы меня приняли и ошеломили. Такой божественной красоты я никогда не видел и не предполагал. Сочетание набирающей силу весны и угасающей зимы выглядит ошеломляюще неповторимым зрелищем. Тяга к жизни в горах превосходит все мои ожидания.
В Сталинские времена здесь трудилось пятнадцать тысяч зэков. О чём и напоминают полуобрушившиеся вышки, и мотки ржавой колючей проволоки. И вышки, и колючая проволока находятся по обеим сторонам горного распадка. Живём мы в трёх бараках, по двадцать человек в каждом. Бараки, это примитивные строения, сложенные из неошкуренных лиственниц и со всех сторон обгорнутых нифелями [227]. Внутри нары в два яруса, стол, две длинных скамейки и у входа железная печка из-под солярной бочки. Пол в бараке выслан тонкими неошкуренными брёвнами, а маленькое окошко затянуто куском толстого целлофана. Жильё построено на скорую руку и самое, что ни на есть примитивное. Летом в таком бараке очень душно, а зимой невероятно холодно. Но недовольного ропота не слышно. Боже упаси обмолвиться лишним словом! Тут не до жиру. Люди опытные и привыкли ко всему. Они хорошо понимают, что главное здесь не бытовые условия и человек.
Главное – золото.
Большинству старателям далеко за пятьдесят. Тюремный стаж у каждого от семи и до сорока четырёх лет. Старатель по прозвищу - «Смерть» сорок четыре года полностью не отсидел, по бериевской амнистии отсидел только половину. Но это и неважно. В зачёт идёт срок по суду, а не по капризам властей и «хозяина». Убийцы, воры, бандиты, грабители…
Но мужицкая и самая распространённая на зонах каста.
Меня они вначале не замечают. Оно и понятно. Не их круга я человек. Однако вижу, присматриваются. Они боятся потерять работу, боятся начальства. Боятся всего. На их загнанном фоне я выгляжу много свободней и независимей. Я не боюсь ни того, ни другого, ни третьего. Такое положение меня приподнимает. Приподнимает не по воровскому закону, а чисто по-человечески. Некоторые из них начинают видеть во мне если и не духовника, то, по их же выражениям - «свободные уши». Душа требует выговориться и требует покаяния. Их собратьям не до них. Сами такие. А Студенту всё интересно. Ему можно, по пьяни или даже так, выговориться, а то и поплакаться. Глядишь и полегчает на грешной душе.
Постепенно многие выкладывают всю свою жизнь. Советуются, как жить дальше. Да и вообще, начинают смотреть на меня другими глазами.
Всё более и более – глазами человеческими.
Меня поражает в них многое. И, прежде всего, их потрясающая выносливость. Работаем мы вместе по двенадцать часов в сутки. Работа такая тяжёлая, что мне часто не хватает сил даже сходить в столовую поесть. А ведь свиду, я самый молодой и здоровый. После бани, я сразу же заваливаюсь на нары спать. А им хоть бы, что. После еды старатели заваривают в закопчённом чайнике чифир. И садятся за стол играть в свою тысячу [228]. Играют они самозабвенно. Иной раз, до драки и поножовщины. В такие минуты я просыпаюсь от шума и с досадой наблюдаю, как они неумело дерутся. Всё, что попадает им под руку идёт в ход. Драка прекращается так же быстро, как и начиналась. Вспыхнула и погасла. На многое их не хватает. Уже и здоровье не то, да и силы не те. За пару часов до смены старатели успокаиваются. И все затихают на своих нарах. Потом опять каторжная работа и всё начинается сначала. И так каждый Божий день или ночь.
Из недели в неделю. И из месяца в месяц.
Кормят нас отвратительно. В старательской артели экономят на всём. В том числе и на еде. К концу сезона от тяжёлой работы и лёгкой пищи мы еле, еле передвигаем свои ноги. Первый месяц я работаю мотористом на насосе. Откачиваю с полигона воду. В комарином и оводином аду, в грязи и воде, на страшном солнцепёке стараюсь обезводить полигон. И далеко не всегда мне это удаётся. Щепа от крепежа бывших зэковских штолен всё время забивает насосный всас. Поэтому, то и дело, приходится его чистить и по новой заливать водой. В трубу всаса входит от девяносто до ста вёдер воды. Работаю, как одержимый и всё равно, не всегда успеваю вовремя откачать воду. Вода дренажирует со всех бортов полигона.
Если бы не щепа…
Однажды, при очистке клапана, я чудом не погибаю. Обрывается натяжной тросик, и вместе с трубой всаса, я оказываюсь на четырёхметровой глубине зумпфа [229]. Тяжеленный всас меня пришпиливает за полы ко дну. Спасает гнилая материя куртки. Под моими отчаянными усилиями она рвется, и я всплываю на поверхность. Холод воды почувствовал уже на берегу.
После отработки полигона меня посылают слесарить в передвижную ремонтную мастерскую. Настала пора переобувания бульдозеров. В ночной смене работаю со сварным – Колей Замотаевым. Я прикручиваю башмаки к лентам, а Коля их обваривает сваркой. В первые ночи нам не хватает времени даже на чай. Постепенно мы втягиваемся в эту работу и уже через неделю можем выкроить для чая пару часов. Коля рассказывает, как он убежал от советского правосудия. Я слушаю и тоже, что-то в ответ рассказываю из своей студенческой и колхозно-армейской жизни.
За полтора месяца мы переобуваем все бульдозера.
Потом один из гидромониторщиков неожиданно прокалывает себе железной скобой стопу. Травмированного старателя вместе с намытым золотом отправляют вертолётом на центральную артельскую базу. А меня срочно переводят на его место. Теперь я уже не «мальчик на побегушках», а вполне серьёзный старатель, да ещё и на самой ответственной работе. Как же, мою на полигоне золото. Работа тяжёлая, но от того, что мою не навоз, а всё же настоящее золото - настроение приподнимается до небес.
По своей теперешней должности, я вхожу в специальную комиссию и постоянно присутствую при съёмках золота. Помогаю съёмщикам открывать промывочную колоду и снимать с ковриков, похожий на ржавые опилки, жёлтый металл. Иногда на ковриках попадаются и маленькие самородки. Хотя и не так часто, как хотелось бы, но всё же попадаются. Самородки с ноготь величиной и с вкраплениями какого-то белого металла. Догадываюсь, что это платина. Через пару недель появляется навык и опыт. И я уже вполне самостоятельно могу определить, сколько же мы намыли металла за сутки.
Ошибки в определении есть, но они незначительные.
Колеблются в пределах от пятидесяти и до ста грамм.
На нашем полигоне лишь один примитивный промывочный прибор. На других - по два. Всего же на участке три полигона. Часть бульдозеров работает на вскрыше новых полигонов. Часть работает на уже открытых. По три-четыре бульдозера на каждый полигон. С моего прибора вначале снимают по триста грамм золота. Затем эта цифра увеличивается и постепенно стабильно доходит до одного килограмма и двухсот грамм. Это очень хорошая цифра. Мы знаем, что на других приборах золота снимают вполовину меньше. И совсем не потому, что они не такие работящие, как мы. Нет, не поэтому. Просто нам больше повезло. Случайно наткнулись на очень хорошее содержание. Начальство всегда крутится там, где больше золота. Нам оно уже надоело. Особенно из-за неудержимого хвастовства.
Почему-то начальству кажется, что в таких богатых съёмках это не наша, а их заслуга.
В один из особенно удачных дней [230], на полигоне появляется председатель артели. Появляется не один, а с длинной свитой сопровождения. Он подходит ко мне, приветливо здоровается за руку и спрашивает, даст ли участок план по золоту или нет? Я отвечаю утвердительно. Он заводит разговор о том, о сём. Я же, как могу, его дружеско-начальственный разговор поддерживаю. Общаемся мы минут двадцать. Однако и этого времени оказывается вполне достаточно, чтобы кто-то из старателей пустил слух будто бы я племянник председателя артели. Все мои убедительные отговорки остаются тщетными.
Впрочем, этот слух не убавляет, а, скорее, наоборот прибавляет мне авторитета.
Ближе к осени, вместе с физической истощённостью, накопилась и психологическая усталость. Старатели уже начинают надоедать. Надоедают постоянные зэковские разборки, их душетрепетные излияния и даже моё третейское судейство. Всё больше и больше хочется уйти подальше от людей и где-нибудь, побыть одному. И уйти не только от этих, а, вообще, от людей.
Скоро отпуск, но и в отпуск не хочется.
Здесь и там, везде люди, люди…
Выручает начальник участка. Он предлагает мне остаться на участке сторожем. После прошлого промывочного сезона здесь уже оставался один сторож-старатель. И всё из-за медведя-шатуна. Так-то, за сто пятьдесят километров до ближайшей человеческой цивилизации, от кого тут и что сторожить? В позапрошлом году медведь-шатун залез в продовольственный склад. Всё пережрал, рассыпал и перегадил. Сколько зверь прожил на складе, одному Богу известно.
Бульдозерист оставил в кабине бульдозера банку сгущённого молока. Так и ту банку медведь нашёл и ладно бы выпил, а то ведь залез в кабину, и зачем-то скрутил в узел рычаги управления. По весне старатели прилетели, а кушать-то на участке и нечего. Пока нашли и подвезли еду, пока то, да сё, месяц драгоценного времени и потеряли. Соответственно, потеряли золото, а вместе с ним и немалые деньги. После такого пролётного конфуза, решили оставлять на участке сторожа. Так оно получалось и дешевле, и надёжнее. Как и все артельские старатели, я знал об этом.
И не долго думая, дал своё согласие на зимовьё.
+++
Много раз я мысленно возвращался к тому прекрасному времени. Всё думал, что же такое со мной случилось и почему, за эти полгода, я стал совершенно другим человеком? Полгода полного одиночества так круто изменили мой характер и мировоззрение, так преобразили, что те из людей, кто знал меня раньше, перестали узнавать Студента потом. Да и сам я себя не очень-то узнавал.
Последний вертолёт со старателями улетел двенадцатого октября. За три дня вертушка [231] завезла продовольствие на следующий сезон и вывезла всех старателей. Проводив винтокрылую машину глазами за горный перевал и наконец-то, дождавшись долгожданной тишины, я почему-то не уходил в барак, а всё ещё долго стоял на морозе, прислушиваясь и озираясь по сторонам. Красоты – красотами. Сколько их не оглядывай и не высматривай, всё одно не насмотришься. Стоял я не просто так. Какое-то неведомое и сильное чувство посетило мою душу. Я его почувствовал и постепенно к нему привыкал.
В распадке уже стояли двадцатиградусные морозы, а ночью ртутный столбик термометра опускался до сорока градусов.
Но снега всё ещё не выпадало.
И это казалось мне на удивление странным.
На второй день одиночества, я обнаружил под полом соседнего барака трёх полузамёрзших и полуослепших щенков. Утром, услышав мои шаги, они объявили себя слабеющим перетявкиванием. Мне стоило немалого труда их вычислить и найти. А затем и вытащить из-под забитого окурками пола. Их мать, молодую сучку Кнопку старатели, видимо, съели [232]. А щенки, вот, остались. Два мальчика и одна девочка. Я отнёс их в сушилку, там всё ещё оставалось тепло, и попробовал их накормить. Однако не тут-то было. Есть они ничего не захотели. Чего я только не перепробовал.
Давал им и сгущённое молоко, и сырое мясо, и рыбу. Развёл даже горячего сухого молока. Налил им в алюминиевую мисочку.
И всё без толку…
Выручили рыбные консервы в масле. К ним голодные щенки проявили интерес. Да ещё какой! Когда я ткнул мордочкой в открытую консервную банку первого щенка, он, слабо вырываясь из рук, невольно облизнул растительное масло. И вскоре понял, что это можно и нужно есть. С какой же жадностью он после набросился на еду! Бедолажка! Сколько же они не ели? Примеру первого щенка последовали и остальные. Рыбных консерв на продовольственном складе осталось очень много.
Щенкам хватит и перехватит.
Через неделю щенков стало уже не узнать. Я их выкупал в тёплой воде. Заменил им ватную подстилку. Сушилку они капитально обжили. И я следил за её чистотой, ежедневно убирая отходы. Баню тоже топил ежедневно. Иначе, откуда тепло?
Первые две недели из распадка я никуда не уходил. Спал, отъедался, топил баню и ухаживал за щенками. Имелись и другие неотложные работы. Морозы усилились, пришлось из рабочего барака перебраться в более тёплый балок [233] начальника участка. Пилка и колка дров, заготовка на ручье льда, приготовление пищи – всё это и ещё много чего другого легло на мои плечи. Выжить на Северах, даже при наличии продовольственного склада, без труда и повседневных забот никак невозможно.
Меня неудержимо тянуло в горы. На улице горные вершины, как магнитом, притягивали всё моё внимание. Зайду в балок и тоже думаю о них. Душа жаждет их поднебесной высоты. Жаждет настоящей свободы. Будто этой свободы ей мало.
И вот наступило время похода в горы.
Ещё с вечера я к нему тщательно приготовился. Тщательно осмотрел и почистил карабин. Умело подправил охотничий нож. Не забыл приготовить в дорогу и довольно уёмистый, и питательный тормозок [234]. В литровую походную фляжку налил вкусного брусничного морса. Давеча, не поленился набрать брусники и приготовить из неё питательного и жаждоутоляющего морса. А щенкам открыл с десяток банок, так полюбившейся им скумбрии. Почти новые валенки и зимняя одежда, сомнений у меня не вызывали. Движений они не связывают. Сидят на теле прочно, удобно и тепло.
После плотного завтрака, в шесть часов утра, я отправился в горы.
В распадке стоит настоящая темень. Утром и не пахнет. Мороз щиплет на лице кожу, а руки постоянно ищут тёплые рукавицы. Чем выше, тем светлее. Светлее от звёзд. Звёзд на небе столько, что глаза разбегаются. И все такие яркие и такие умытые. На материке таких звёзд не увидишь. Здесь небо чистое, не засорённое. От звёздной красоты глаз не оторвёшь. Стоит полная тишина. Только мои шаги и моё дыхание её нарушают. Но и не так, чтобы уж очень. Идти стараюсь бесшумно. Иногда останавливаюсь, смотрю на звёзды и прислушиваюсь. Карабин в левой руке и он готов к стрельбе.
Готов к ней и я.
До вершины ещё далеко. Идти тяжело, но усталости я не чувствую. Часто прикладываю к лицу рукавицу. Мороз не меньше пятидесяти градусов. По первой якутской зиме знаю, что скоро будет и больше. Вскоре я согреваюсь. Тепло от тела поднимается к лицу. Теперь всё внимание окружающей среде. На середине горы останавливаюсь и оглядываюсь назад. В распадке ничего не видно. Там сплошная темень. Соседняя вершина лишь смутно выделяется на звёздном небе. С начала подъёма прошло не больше часа. Эту вершину я уже покорял. Со старателями поднимался за шишками кедрового стланика. Она начало длинного хребта. Отсюда хребет тянется на пятнадцать километров и заканчивается у горного озера. Сам я по хребту далеко не ходил и того горного озера не видел. Слышал и знаю от досужих старателей.
Подъём стал заметно круче. В валенках по такой крутизне подниматься не очень-то удобно. Шаги мои укорачиваются. И время подъёма удлиняется. До вершины добираюсь в изнеможении. Но не полном. Силы ещё остаются. Хотя их не так и много. Сажусь на первый попавшийся камень, перевожу дух и всматриваюсь в восточный горизонт.
Там начинает зеленеть узенькая полоска света.
Значит скоро рассвет.
И он не заставляет себя долго ждать. На Северах всё делается стремительно быстро. Пока отдыхал, полоска света расширилась. Стало гораздо виднее. Небо над полоской покраснело. И первые солнечные лучи уже начинают золотить белесую тончайшую дымку. Ещё немного и восток озаряется светом. Запад ещё лежит во тьме. А на востоке уже открылись взору небеса и горы. Куда ни глянешь, одни сплошные горы, горы и горы. Целая империя гор. Или горная империя. Называйте, как хотите. Горная сущность и её величие от этого не изменится. В распадках видны облака. И первая птица поднимается над ними. Большая, огромная птица. Это орлан. Нет ему равных в небе и мало кто устоит против него на земле.
Я поднимаюсь с холодного камня и замечаю свою ничтожность в сравнении со всем этим Божьим творением, горным величием и девственной красотой. И не просто замечаю, а ощущаю и душой и телом. Нам всё время талдычили о человеке, как о «царе природы», о человеке, который «звучит гордо». А тут и вдруг, такая существенная разница. Кто я в этом громадном и непознанном мире? Я выше удивительных гор? Ярче солнечных лучей? Или значительнее рассвета и солнца?
Даже одинокий орлан умеет летать и парить над землёй. Почему же так я не умею? Но во мне есть и живут многие силы. Они ещё спят. Или только, только набирают свою величину. Я их чувствую. И я точно знаю, что они во мне есть.
Но я не готов и ещё не умею ими управлять.
Девственная горная красота их будит, будит…
На ум приходит легенда Творца. Легенда ли? Разве могло всё это звёздное, мёртвое и живое пространство родиться само, без Творца? Никогда! Во всём этом величии и неописуемой красоте даже мне, такому неотёсанному и самому последнему представителю рода человеческого, ясно и понятно. Я ощущаю мысль и руку Творца! Без Творца здесь ничего не обошлось. Бог есть! Вот Его творение! Оно передо мной! И я тоже Его дитя! Пусть такое грешное и слабое.
Но всё-таки Божье дитя!
Не помню. То ли, сразу после этого признания и озарения. То ли, немного позднее, вдруг, я стал чувствовать странное и совершенно чудесное покровительство. Покровительство не земное, а сверхъестественное. Счастье, любовь и радость заполонили всю мою душу. Кто-то из людей сказал, что от счастья можно и умереть. Не знаю. Может это и так.
Но я не умер. Я жил. Я носил его в себе целую седмицу, если не больше. Оно носило меня. Восторг от такого состояния неописуем.
Потом оно меня покинуло. Всё снова вернулось на свои места. Я ходил сам не свой. Мне хотелось обратно вернуться к тому чудесному состоянию. Но, увы. Как я ни хотел и как ни старался, оно ко мне больше не вернулось. Что это было?
Я не знаю. А предполагать не хочу.
Родненькие мои!
Не случайно я столь подробно описал вам первый год своего пребывания на Северах. Мой первый год старания - самый трудный и интересный год. Десять лет я прожил в Якутии. Разные это получились годы, разные и по наполнению, и по значению. Однако первый тот год, невозможно переоценить. Он стал не только переломным в моей жизни, но и во многом, определяющим на все последующие годы.
После зимовья я уже не смог работать в старательской артели. Не смог терпеть и равнодушно закрывать глаза на многочисленные унижения человеческого достоинства, и как прежде проходить мимо. Даже наблюдать со стороны раболепство и пресмыкательство старателей мне стало больно и противно. В конце апреля я легко и без всякого сожаления рассчитался со старательской артелью, и улетел в самое холодное место на земле - Оймяконский район. Затем последовали: Анабарский, Томпонский, Усть-Янский и опять Оймяконский, где и закончил свою жизненную якутскую эпопею.
Первые пять лет работал плотником, кочегаром, рабочим геофизической партии, плотником-бетонщиком, землекопом, учеником проходчика…
За эти северные годы мои руки привыкли держать: кайло, лопату, лом, топор, кувалду…
Так намахаешься ими за день или же за ночь, что придёшь с рабочей смены в бичарню и места себе не находишь от грязи, пота, усталости и опустившихся людей. Хочется что-нибудь почитать, написать, просто в тишине отдохнуть, а сил, времени и возможности на это и нет. Надо ложиться спать. Ведь завтра опять идти на работу. И так изо дня в день, и из года в год.
На Северах много разных проблем.
И почти все они - порождение халатности и безответственности.
С халатностью и безответственностью у нас полный набор и порядок. Они всегда в наличии. Каждый Божий день случается, то - одно, то - другое [235]. От проблем, как и от назойливых комаров и оводов, успевай только отмахиваться, да поворачиваться. Одна из самых неразрешимых северных проблем – проблема тёплых туалетов. Другая проблема - трудность с мытьём. Во многих северных посёлках баня работает лишь два раза в неделю. В субботу моются женщины, а в воскресенье смывают свою рабочую грязь мужчины. Или наоборот. В субботу моются мужчины. А в воскресенье женщины.
Одной только банной воды недостаточно рабочему человеку.
И всё же отсутствие элементарных гигиенических удобств ещё можно, как-то, пережить и перетерпеть. Русский человек терпеливый. Труднее мне приходилось сживаться с людьми, с их пристрастиями и пороками. Безудержное винопитие, матерная ругань, повальный блуд, частые разборки с драками, стрельбой и поножовщиной сопровождали меня повсюду. Сопровождали во всех северных бичарнях-общежитиях. Летом еще, куда ни шло. Можно уйти на улицу, податься в горы, тайгу.
А зимой и уйти-то некуда.
Но, слава Богу, за всё!
Господь отвёл меня от страшного греха. Дал волю и терпение. Без Его помощи, один бы я никогда и ни за что бы не справился. Не сдержался и убил бы кого-нибудь. Или же убили меня. Много человеческих смертей прошло через мою память. Так много, что обо всех не упомнить и не рассказать. Жизнь и смерть всегда сопутствуют человеку. Тут ничего удивительного нет. Насильственная же смерть – противоестественна и крайне неприятна. Она есть порождение тяжкого человеческого греха или государственного произвола.
С самого первого дня своего пребывания на Северах, меня очень сильно заинтересовала тема Сталинских лагерей. В то время здесь их выросло столько, что и не сосчитать. И в мою бытность, ещё оставались в посёлках люди, не забывшие эти лагеря, а то и отсидевшие в них, положенные суровым законом сроки. Сталинских сидельцев оставалось в посёлках мало, но они всё же имелись. Однако чтобы услышать от них рассказ о гулаговском прошлом - требовалось особое умение и подход. Ни тем, ни другим я не обладал. Но люди видели мой неподдельный интерес к ним и часто шли на уступки, и снисхождение. Рассказывали. А при вручении им вино-водочных талонов, рассказывали охотно. Я внимательно слушал, а после записывал услышанное в тетрадку.
К концу своего пребывания на Северах у меня накопилось много таких тетрадок. Каких только рассказов я не наслышался. Современному человеку трудно себе представить северный гулаговский размах. Самые тяжёлые лагеря находились здесь. Ни печально знаменитые на весь мир Соловки, ни иные лагеря СССР и близко не подходили по тем ужасам, и трагедиям, которые случались на Севлаге. Шестидесяти и семидесятиградусные морозы, вкупе с голодом и каторжным трудом, убивали людей похлеще конвоя, охраны и блатных лагерных урок. Убивали тысячами, десятками тысяч.
Убивали людей миллионами.
Выживали только самые маленькие и самые неприхотливые.
Почти все, с кем мне доводилось беседовать, выглядели щуплыми и низкорослыми стариками. Увидев такого тщедушного человека в городе, пройдёшь мимо и не заметишь. И даже не подумаешь, что этот человек прошёл через многие круги сталинско-гулаговского ада. И не просто прошёл, а сумел выжить, вырваться из смертельной лагерной западни и возвратиться к относительно нормальной жизни. Впрочем, в городе такого человека, пожалуй и не встретишь. Если они туда и попадали, то не выдерживали перемен и вскоре умирали. Кроме Северов таким людям уже не оставалось другого жилого места на земле.
Советская гулаговская система пожирала людей миллионами. В местах «не столь отдалённых» постоянно находилось от восьми до десяти миллионов человек [236]. При высокой смертности и скорой на расправу судебной машине, лагерная ротация происходила ускоренными темпами. Через северные лагеря прошли десятки миллионов людей.
И сколько их осталось в вечной мерзлоте, то одному Богу ведомо.
Этапы тянулись на Севера с разных направлений: отправляли заключённых по Севморпути; шли баржи и пароходы с Владивостока; добирались до мест заключения по железной дороге и своим пешим ходом. Многодневные, а то и многонедельные этапы истощали и выматывали людей до предела. Многие не выдерживали трудной дороги и погибали ещё на подходе к Северам. Произвол уголовников и различные болезни нередко «выкашивали» этапы до половины. Но и те, кому повезло добраться до лагеря – получали лишь кратковременную отсрочку от смерти. В лагере их ожидали каторга, холод и голод.
На берегу Юдомы один сиделец мне рассказывал, что из дошедших до Ыныкчанского лагеря четырёхсот человек, в первую же якутскую зиму, их выжило только двое. Умерших заключённых складывали в штабеля за бараками. А по весне всех потом зарыли в отвал американским бульдозером.
Лагерная жизнь ломала людей, превращала их в безвольных и послушных рабов. Повсеместно процветало стукачество, воровство, страх перед всеми и т. д., и т. п.
Единственными людьми, кто не потерял своего человеческого лица и надежду на спасение, оставались лишь верующие люди. В лагерях их называли церковниками или сектантами. По вере и молитвам, Господь давал им силу духа и возможность терпения и покаяния.
Лагерная тема долгое время мне не давала покоя, что и неудивительно.
Немного позднее, в период так называемой гласности, когда в толстых советских журналах, словно отдавая дань не трагедии, а моде, замельтешили художественные и публицистические произведения на эту тему, я стал невольно сравнивать прочитанное с услышанным и записанным мною в свои тетрадки. И скажу, не таясь, мои записи почти полностью совпали только с рассказами уже упомянутого выше В. Шаламова. Остальные авторы [237], грешили художественными приёмами, писательским вымыслом и, как следствие, искажением истины. Нет смысла подробно останавливаться на этом неприятном моменте.
Бог нам всем судья.
Старательская артель дала пропуск в северную жизнь. О лучшем пропуске я и не мечтал. Да его и не существовало в природе. После артели, я почувствовал себя настолько уверенно, что любое житейское море мне казалось по колена. Я легко их форсировал и быстро находил правильный выход из самой сложной ситуации. А сложностей и трудностей на пути всё ещё хватало.
Они встречались почти на каждом шагу.
За пять северных лет, вдоволь намаявшись на тяжёлых физических работах, я стал задумываться, а зачем мне всё это надо? И в самом деле. Семьёй я не обзавёлся. Денег копить не научился. Тогда зачем и для кого я так утруждаюсь? Интересный получался вопрос. Сам собой, напрашивался и резонный ответ. А не пора ли мне остановиться, как следует осмотреться и поискать себе работу более лёгкую? Пусть и менее денежную работу, лишь бы она позволяла иметь свободное время. Его-то мне и не хватало. И не просто не хватало, а не хватало, как воздуха. Подумано-сделано.
Остановился и осмотрелся.
Поискал для себя наиболее подходящий и щадящий труд. И что вы думаете? К моему немалому удивлению и огорчению, все такие работы оказались уже занятыми. Выходило, что не один я такой умный и расчётливый. Все лёгкие работы уже давным-давно заняли старожилы. Их не интересовали длинные северные рубли. Они жили вполне нормальной семейной жизнью, в полной мере наслаждаясь красотами и природно-пищевыми богатствами Крайнего Севера.
Жили в своё удовольствие, особо не обращая внимания ни на власть, ни на приезжее окружение. В свободное от лёгкой, а то и чисто условной работы время эти люди охотились, ловили рыбу, собирали грибы и ягоды, выезжали и выплывали на пикники. Многие из них занимались пейзажной фотографией, собиранием различных минералов, походами в горы и покорением многочисленных вершин, экстремальными видами спорта и другими хобби и увлечениями.
Кому не понравится такая жизнь?
Мне она тоже понравилась.
И сразу же захотелось приобщиться к старожилам. Увлечение у меня имелось. Оставалось дело за свободной вакансией. В перспективе она открывалась, но чтобы её получить, пришлось вспомнить артельское прошлое и три месяца покидать уголёк в топки поселковой котельной. Таковой оказалась плата за будущую свободу. И я её сполна заплатил. А уже после устроился в охрану аэропорта. Сутки дежуришь. Трое суток дома. Если кому-то надо с недельку поохотиться или же порыбачить, то можно отдежурить и больше. На дежурстве разрешается читать и даже заниматься гиревым спортом.
Вот в это время я и приобщился к поискам истины.
Как и где её искать я не знал. А спросить и посоветоваться не у кого и не с кем. Оставалась только одна слабая надежда – на книги. С них я и начал свои поиски истины. Марксистко-ленинскую идеологию, как, что-то подходящее или, хотя бы, путеводное, я отверг и отбросил сразу же. Лживость и пагубная порочность советско-государственной идеологии сомнений у меня не вызывала. Её практическая сторона вопияла и кровоточила прямо перед моими глазами.
В поселковой библиотеке попалось под руку несколько книг по Индии. Я их с интересом прочитал. В районной библиотеке прочитал ещё больше. Буддизм, индуизм, кришнаизм, ислам… и много чего ещё, взбудоражили мозг и взволновали душу. Хотелось читать и узнавать больше, но в окрестных библиотеках все книги по этой теме закончились, а выписанные из Якутска лишь повторяли уже прочитанное.
Пришлось оставить Индию и перейти к изучению ислама. Почему ислама, а, скажем, не буддизма? Ответ на это простой - на библиотечных полках об исламе стояло больше книг. Эти книги бросались в глаза. Их я и начал читать первыми. Хотя и эту теологию я вынужден был отложить в сторону. И всё по той же причине. Скудность библиотечного материала [238] не давала полной информации. Прочитанные книги, усугубив жажду познаний, заставляли меня домысливать и делать самостоятельные выводы. В их точности я не сомневался. Мозг требовал постоянной пищи, а душа капризничала и всё время противилась. От неимения первого, я всё чаще и чаще стал прислушиваться к душе. С её подачи мне и удалось понять, что ислам, это тупиковый путь.
После ислама я уже перешёл к изучению буддизма и много шире - к так называемой восточной философии. Буддизм во всех его разновидностях, даосизм, конфуцианство, синтоизм… на долгое время поглотили моё сознание. Я так увлёкся восточной философией, что однажды, даже дело дошло до поступления на восточный факультет Дальневосточного университета. Мне страшно захотелось, усвоив там китайский язык, взяться за изучение подлинников буддийских и даоских трактатов.
Слава Богу, что этого не случилось!
Из университета мне прислали длинную бумагу, в которой чёрным по белому учёные люди написали, что на восточный факультет Дальневосточного университета принимаются гражданские лица мужского и женского пола. Однако принимаются не просто так, а по направлениям-рекомендациям райкомов КПСС (для коммунистов) или же обкомов ВЛКСМ (для комсомольцев), пригодные по состоянию здоровья для работы в странах Юго-Восточной Азии и Индокитая. Беспартийных людей на восточный факультет не принимали. После такого разъяснения, надобность в поступлении для меня отпала сама собой.
Несколько лет я «барахтался» в тисках восточной философии. «Барахтался» до той самой поры, пока сами же буддисты, с присущей им гордостью и вполне доходчиво, не объяснили, что, на самом-то деле, они являются ни чем иным, как слугами сатаны. После такого исчерпывающего объяснения я надолго призадумался и больше уже никогда не возвращался ни к буддизму, ни, вообще, к чему-то восточному.
Наступило горькое время апатии и разочарований.
Оно совпало со временем горбачёвской гласности и перестройки. В стране, вместе с набирающим силу всеобщим хаосом и бардаком, появилось чуточку больше свежей информации и виртуальных свобод. Товары ширпотреба всё ещё выдавались по талонам, но уже вышли из подполья цеховики, а на грязных городских улочках и переулках, как грибы после дождя, выросли книжные развалы.
На одном из таких книжных развалов, без всякого умысла и как мне тогда казалось, совершенно машинально, я и купил книжицу игумена Синайской горы - аввы Иоанна Лествичника под странным названием - «Лествица Райская». Скорее всего, только одно это название меня тогда привлекло и заинтересовало. Но читать я её сразу не стал. Отложил книгу в сторону. И она долго пролежала под спудом. Открыл я её много позднее. И открыл со слезами на глазах, находясь под впечатлением от только что прочитанной статьи, в которой подробно рассказывалось о большевистских зверствах в православных и особенно женских монастырях.
Открыл тонкую книжицу и замер от великой радости и наслаждения. Будто открыл не книжицу, а форточку в душной и накуренной комнате. Не буквы и слова, не предложения и фразы, и даже не абзацы, а живительный воздух потёк в мою душу, наполняя и душу, и сердце, и мозг. «Господи!» - воскликнул я в сердцах – «почему же раньше не попадалась мне на глаза эта святая книга? Сколько сил и времени потрачено на поиски истины, а она, оказывается, не где-то там далеко и совсем не в чуждой и чужой стороне, а здесь, рядом».
Несколько раз я перечитал «Лествицу Райскую».
С этой книги и началось моё прозрение, покаяние и возвращение к Господу нашему Иисусу Христу, Троице Единосущной, Животворящей и Нераздельной. После «Лествицы» я продолжил и взял за неукоснительное правило читать книги Святых Отцов и Учителей Церкви. Вопрос Церкви тогда для меня не стоял. Так как, кроме Московской патриархии, других русских поместных церквей я не знал и даже о них ничего не слышал. Как и не знал того, что не может быть нескольких поместных церквей. К этому пониманию и к пониманию много чего другого, мне ещё только предстояло прийти.
Приближался 1991 год.
В стране уже разгоралась и набирала ход политическая стихия. С разных трибун, журнальных и газетных полос, громко и открыто зазвучали обвинения в адрес компартии и всего советского строя. В кои-то веки, русские люди очнулись от долгой спячки, и вышли на улицы с требованием политических перемен. На окраинах страны уже начинались кровавые клановые разборки…
СССР замер.
А потом и закачался, словно колосс на глиняных ногах. Его падение оказалось во власти ближайшего времени. Как и многим моим соотечественникам, мне было абсолютно всё равно, кто придёт после падения СССР к будущей власти.
Да, кто угодно.
Лишь бы только не коммунисты.
Против них я голосовал на выборах и всем своим авторитетом призывал других следовать моему примеру. После победы Ельцина хотелось верить в чудо. Хотелось верить, что наша жизнь скоро изменится к лучшему. Тёмная полоса закончится и мы, наконец-то, выйдем на светлую и правильную дорогу. Полный столь радужных надежд, я с лёгким сердцем покинул Севера.
И возвратился на родину в свой родной хутор.
Десять северных лет закончились. Но не угасла память о них и не ослабела северная ностальгия. Почти каждый Божий день, я возвращаюсь к тому времени, перебирая в мыслях наиболее тяжёлые или самые памятные прожитые дни.
Разве можно на десяти страницах вместить невместимое?
Выше, я почти ничего не сказал о своей работе плотником-бетонщиком на строительстве Депутатского оловорудного комбината. Лишь только, походя, упомянул о ней. Умолчал и о рабочей забастовке на комбинате. И о своём активном участии в забастовке. По сути, мне пришлось возглавить её. Не упомянул об открытой слежке КГБ и о чудесном избавлении от политической тюрьмы или же психиатрической лечебницы. Не стал я распространяться и о своих физических недугах, планах, скорбях, случившейся смерти матери, разочарованиях, мечтах и каких-то временных успехах, и ещё о многом другом, что идёт рядом, всегда сопутствует или преследует обыкновенного человека. Жизнь наша насыщенна событиями. И она столь изменчива и многогранна, что обо всем не упомнишь и обо всём не напишешь.
Ничего не сказал я и о своей работе по охране и транспортировке золота в системе комбината «Индигирзолото», ученичестве проходчика открытых горных выработок в ВИГРЭ - верхне-индигирской геолого-разведывательной экспедиции. Скрыл я от вас и о своём школьном учительстве. И ничего не сказал обо всех тех многочисленных мытарствах и терзаниях, щедро полученных мною от начальства, простых людей и по собственной глупости, так и не отставших от меня ни на шаг и всё время шедших, преследовавших и тянувшихся за мной следом и по пятам. Осталась у меня в памяти и одна прочная ниточка к золоту партии, и к другой небезынтересной информации, претендующей на отдельное исследование или же повествование.
Родненькие мои!
Завершая эту главу о своём пребывании на Северах, дополню её ещё одним маленьким эпизодом. Даже и не эпизодом вовсе, а едва заметным, штришком, на первый взгляд, к Северам не относящимся. Пусть даже и так. Идея и соль мысли в другом. Скорее всего, этот штришок и является тем самым характерным моментом истины для всей нашей прошлой, а то и настоящей жизни. Полагаю, что он достаточно полно раскрывает сущность, как советского строя, так и его тогдашних защитников и носителей.
В 1987 году, по рекомендации врачей [239], я на время покинул Севера.
Вернувшись на родину и проявив интерес к предложенной новой профессии, а так пуще того, дабы не привлекать к себе внимание правоохранительных органов, я устроился учителем химии и биологии в малокомплектной восьмилетней школе. Очутившись в родной хуторской стихии и не иначе как под воздействием агрономического вдохновения, взял и на радостях написал, ещё в институте задуманную и давным-давно, выстраданную работу о сельском хозяйстве.
На Северах у меня до неё всё руки не доходили. Всё, как-то, не хватало то времени, то особого желания, то творческих сил.
А тут взял, да, за один присест и написал.
В этой простенькой свиду работе раскрывалось и предлагалось одно дельное агрономическое новшество, существенно повышающее производительность труда, упрощающее агрономическую и административную работу, агротехнические приёмы и как следствие, значительно повышающее урожайность сельскохозяйственных культур. Новшество это всегда лежало на поверхности, но, почему-то, раньше оно никем и нигде не упоминалось и не замечалось. При написании этой работы, я, конечно же, исходил из советских реалий и не тешил себя иллюзиями, напрасными и несбыточными надеждами. Я вполне отдавал себе отчёт в том, что, при нынешнем государственном строе и крепко закосневших сельскохозяйственных порядках, моё открытие, скорее всего, так и останется невостребованным.
По окончании, работу я отправил в областное управление сельского хозяйства. И стал дожидаться ответной реакции. Долго ожидать она себя не заставила. Через несколько дней из областного управления сельского хозяйства приехал ответственный специалист и целых два часа вёл со мной разъяснительную беседу о том, что, мол, в наших теперешних условиях моё предложение или даже открытие, просто-напросто, неприемлемо, а потому и неосуществимо. Неприемлемо и неосуществимо в силу целого ряда причин. И ответственный специалист, с удовольствием и не без некоторого профессорского пафоса, их перечислил. Хотя и далеко не все. Ничего не скажешь, из области прислали умного и довольно толкового специалиста. Но о причинах, им перечисленных, мне и самому было хорошо известно. И без его подсказки, я мог бы на них легко указать, а, если надо, то и продолжить их перечень дальше и дальше.
Вволю наговорившись, специалист, довольный собой и как ему показалось, удавшейся беседой, побыл ещё немного в учительской и уехал восвояси. Мою же работу, как я и предполагал, быстро замяли и без лишних хлопот положили под сукно [240]. Но не о ней разговор.
Вся закавыка в том, что эта работа начиналась такими словами: «СССР – страна дураков и гениев, интеллектуалов и невежд, бюрократов и бюрократов». Именно это первое предложение и поставило в недоумение, а то и тупик вышестоящее областное начальство. Оно никак не могло понять и взять себе в толк, как же это простой сельский учитель мог дописаться до таких крамольных слов?
СССР и вдруг, на тебе – страна дураков!?
Не иначе, как для ознакомления с этим первым предложением и для смеха, мою работу и «спустили» вниз до уровня райкома КПСС.
И вот, однажды, зимним и ветреным днём, возвращаюсь я домой из школы. Под ногами шуршит позёмка. И моё ветхое пальтишко продувается насквозь. Я тороплюсь, хотя идти зябко и неприятно. В голове только одна мысль – «быстрей бы попасть домой, попить чайку и отогреться». Неожиданно, прямо на мосту, догоняет меня новенький райкомовский «уазик». Жёлтенький такой, похожий на одуванчик. «Уазик» сзади остановился, скрипнула открывшаяся дверца. Я невольно оглянулся. Из дверного проёма высунулась женская головка. Секретарём райкома тогда служила женщина.
Она спросила.
- Вы, Балабанов?
Я молча кивнул.
Секретарь райкома на меня укоризненно посмотрела и после, покачивая из стороны в сторону головой, тихо произнесла.
- Как же вы могли такое написать. СССР – страна дураков.
Больше она ничего не сказала. Захлопнула дверцу «уазика» и быстро укатила по дороге дальше. И всё же, в её глазах я успел прочитать недосказанную фразу - «а ещё школьный учитель». Однако, на этом наше «шапочное» знакомство не закончилось. Лет через десять мы снова с ней встретились. Правда, встретились уже не на дороге, а в её новеньком кабинете - председателя комиссии по реабилитации репрессированных советской властью граждан, в частности, раскулаченных [241].
Бывший секретарь райкома меня узнала. Узнала, но виду не подала. Впрочем, ей и подавать-то, особо не следовало. От прошлого и теперешнего стыда женщина густо покраснела. Оно и понятно, совесть за душою и телом не скроешь. Дай Бог ей здоровья за неё, а ещё и за то, что всё же помогла мне разобраться с теми бумагами.
Вот тебе и страна дураков и гениев.
Как говорится – из огня, да в полымя. Из одного кресла в другое. А сущность остаётся всё та же. Сущность остаётся…
Безбожная.
От Северов я возвращался, уже осознано принимая не мирской, а монашеский путь. Слава Богу, что нам не дано знать всё наперёд! Тогда я не думал и даже не предполагал, что мне предстоит ещё многое пройти, многому научиться и многое пережить и перетерпеть.
Впереди меня ожидало полных двенадцать лет монашеского искуса.
О них и речь в следующей главе.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Монашеский искус
«Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные; потому что участь сынов человеческих и участь животных - участь одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что всё - суета!».
(Книга Екклесиаста или Проповедника. 3. 18, 19).
О своём решении посвятить себя Господу и стать Его воином, я никому из родных не говорил и даже не заикался о том. Хуторская жизнь, все эти долгие годы, прекрасно обходилась и без моего участия. Отец обзавёлся новой семьёй. Брат тоже женился. Вокруг, с детства знакомые люди, занимались своими житейскими делами и хозяйственными проблемами.
По любому счёту, до меня не было никакого дела. Никому. Ни отцу, ни брату, ни хуторянам.
Живи, как хочешь. И живи, как можешь.
Поэтому, едва появившись на хуторе и кое-как освоившись с новой жизнью, я ещё больше ушёл в себя, ещё прочнее замкнулся, стараясь жить тихо и незаметно. В то время меня часто можно было увидеть с книгой в руке у речки, на лугу или же ещё где поблизости.
В родных пенатах я и осилил Библию. Хотя, осилил, это, пожалуй, слишком громко сказано. Правильнее сказать, прочитал. А уже после начал постепенно учиться читать и по церковно-славянски. Конечно же, это не значит, что я только и делал, что жил вот так, книжно-вольготно. Чтение, чтением и учёба, учёбой, а от крестьянских работ меня никто не освобождал. Кормить задарма желающих не находилось, да и сам я этого не хотел. Поэтому, хочешь, не хочешь, а, в первую очередь, пришлось заниматься крестьянскими делами. Косить и заготавливать на зиму сено, убирать картошку, возить и разбрасывать под вспашку навоз…
И только потом, после трудов праведных, браться за Святые книги.
После позорного ГКЧП, СССР рухнул. Однако ожидаемого шума вышло не слишком-то много. Уж очень всё давно отболело.
Получилось больше пыли, чем шума.
С началом 1992 года все мои денежные накопления испарились. Деньги пропали небольшие. И мне было всё равно. В конце концов, не в деньгах счастье и даже не в их количестве. А вот моим землякам – нет! Не всё равно! И я хуторян понимал. Многие из них годами, а то и десятилетиями накапливали эти несчастные сбережения. Причём, заметьте, накапливали своими крестьянскими трудами, а не чем-то ещё. Копили, что говорится – «потом и кровью». И вдруг, на тебе! Их взяли, да и обобрали. И если бы только их. В одночасье, все русские люди стали полностью нищими.
И кто обобрал?
Да, всё те же самые московские жиды!
Всенародный грабёж они хитро закамуфлировали, под так называемую - «гайдаровскую экономическую реформу». Эта «реформа», опустошив всенародные карманы, начисто подорвала у людей доверие к всякой «демократической» власти. Всё чаще и чаще, они начали вспоминать «золотые» брежневские времена. А кто выжил и дожил до сегодняшнего дня, вспоминает их и до теперешней поры.
В прессе и на телевидении замельтешили высокопоставленные люди в рясах от Московской патриархии. Их появление удивление не вызывало. Свиду всё получалось вполне закономерно, правильно и как бы само собой. С подачи властей, они пытались втиснуться между народом и сильными мира сего, и тем самым, как бы, смягчить трение от властного произвола и казалось, неизбежного народного ответа.
Если раньше, при советской власти, один священник МП окормлял два, а то и несколько районов, то теперь начали появляться эмпэшные люди в рясах и по ближайшим околоткам. Московская патриархия изо всех сил старалась охватить своим влиянием как можно большее количество людей. В её епархиях шло интенсивное рукоположение [242]. И часто рукополагали, кого ни попадя.
Кто соглашался, того и рукополагали.
Нередко человек совершает свои поступки, находясь под определённым настроением. Не будь такого настроения, он бы поступил совсем по-другому. Так же случилось и со мной. Приехали ко мне домой, мой друг детства и председатель сельсовета. Друг детства в это время исполнял обязанности председателя сельскохозяйственного кооператива, то есть вчерашнего советского колхоза [243]. Приехали не просто так, а по делу. И попали, как раз же, под нужное им настроение. В другое время, я бы никогда не согласился на их просьбу стать начальником производственно-сельскохозяйственного участка.
А тут взял, да, ни с того, ни с сего и согласился.
И если бы я ничего не понимал или не знал об этой тяжёлой и неблагодарной работе. А то ведь всё прекрасно знал и понимал. Моё неожиданное согласие вызвало удивлённое недоумение даже у моего родного отца. Но, делать тут нечего.
Раз дал согласие, стало быть, надо засучивать рукава и приниматься за работу.
Участок выпал самый большой. Тысяча триста гектаров пахотной земли, тракторная база, молочно-товарная ферма, конеферма. Разброс полей до пятнадцати километров. Техники много, но она почти вся старая и уже полностью добитая. Людей не хватает. А те, кто есть, в большинстве своём, алкоголики или не русские. На фермах тоже дела обстоят не лучшим образом. Доярки все турчанки-месхетинки [244] и азербайджанки. Русских доярок нет и в помине. Молоко растаскивают по домам. А коровы стоят грязные и часто голодные. Оно и понятно. Люди дикие. Люди пришлые и так далёкие от сельского хозяйства и от всего остального. Не в обиду будь сказано, но оставляют впечатление, словно они прибыли из прошлого, а то и позапрошлого века.
Хуже всего работать тогда, когда знаешь, как и что делать, но сам ты ничего не можешь поделать, в силу перечисленных выше причин.
Первое время просто руки опускались. И казались напрасными все мои пожелания и труды. Долго я ломал голову и искал выход. Институтские знания оставались на обочине. И применить их, в такой ситуации, не представлялось возможным. На хуторах всё ещё оставалось много пенсионеров. К ним я слёзно и обратился. Как говорили раньше в старину, стал бить челом и просить у них помощи. Не все, но кое-кто из них засовестился и откликнулся на мою просьбу. Поставил я этих пенсионеров заведующими МТФ и конефермой, заведующей столовой и бригадирами тракторной и полеводческих бригад. Следом за ними подтянулись и остальные наши хуторские пенсионеры. И постепенно положение дел на участке выправилось, а вскоре и пошло в гору. Мне и самому было интересно принимать решения и после наблюдать за их выполнением и результатами.
Председатель колхоза вначале был сильно недоволен мной, а, так пуще того, тем, что без его участия на ответственную должность поставили такого, столь неопытного человека, как я. Но потом, видя мою нескрываемую боль-участие и моё постоянное присутствие на самых ответственных участках работы, ну и, конечно же, положительную динамику труда, смирился с самим собой и вскоре даже стал ставить меня в пример другим начальникам. Зная, что я всегда там, где надо, он очень редко наведывался на участок. Месяцами я управлялся один. Вставал в четыре часа утра. В пять утра уже был на утренней дойке. А после неё, шёл на тракторную базу и там занимался полеводством и иными делами.
А их скапливалось множество.
Родненькие мои!
Дабы не утомлять вас излишними подробностями и в завершение этого отрезка моей хуторской жизни, упомяну лишь только о том, что по урожайности сельскохозяйственных культур, кроме кукурузы, наш участок занял первое место в районе. Тем более это и показательно и удивительно, ведь ваш покорный слуга раньше никогда не работал на подобных должностях. А тут, вдруг, не успев, как следует поработать и сразу такой невиданный и неожиданный для всех успех. Прямо чудо какое-то. Не скрою. Оно меня радовало. Однако я не видел ни малейших дальнейших перспектив. И ладно бы государство только отказалось от сельского хозяйства. Если бы так, то ещё, куда ни шло! Нет, оно не отказалось.
Государство стало активно мешать его развитию.
А по времени и по морально-нравственному окружению, я попал в точно такую же ситуацию, как и в свои первые годы на Северах. Но тогда я ещё не знал о монашеском пути. Теперь же эта мысль меня не оставляла, а денно и нощно преследовала по пятам. Куда пойти и податься на послушание? Только этот вопрос и встал для меня непреодолимой стеной.
Монастырей много, но какой только для меня одного?
Я выписывал много газет. И вот однажды, в одной из них вычитал информацию о том, что в Литве, в отличие от Латвии и Эстонии, русскоязычных людей не притесняют. Выдали всем Литовские паспорта и что люди там все живут мирно и хорошо, невзирая на не титульные нации и этнографические группы. И что заслуга в этом Русской Православной и Католической Церквей, которые смогли найти общий язык и так далее и тому подобное. В конце упоминалось и об архиепископе Хризостоме (Мартишкине), как об одном из «виновников» сего непредсказуемого раньше явления.
Статья меня заинтересовала. Я начал собирать материал о Литве. И вскоре узнал, что, когда-то Литва была православной. Что оттуда на Московскую кафедру пришёл будущий патриарх Тихон (Белавин). И что там имеется действующий Свято-Духов мужской монастырь, который никогда не закрывался, не закрывался он и при советской власти. «Вот, это для меня! Это моё и есть!» - подумалось мне. Не долго думая, я написал коротенькое письмо архиепископу Хризостому, в котором кратенько рассказывал о себе и просил принять меня в число монастырской братии Свято-Духова монастыря.
Не помню уже, сколько прошло времени, но, однажды, вызывают меня в колхозную контору. И там председатель вопросительно вручает в руки телеграмму от Хризостома. В ней дословно говорится следующее: «Приезжайте в Вильнюс. После собеседования мы с вами примем совместное решение. Архиепископ Хризостом». Что тут думать? Думать нечего.
Я рассчитался с работой и приехал в Вильнюс.
В жизни мне не так много довелось повидать городов. А по-настоящему красивых, так и ещё меньше. И в России и на Украине. В других республиках бывать, тоже не довелось. Кроме Курска, ни один из наших городов мне так и не показался и не запал в душу. Создалось такое впечатление, что повсюду царит, примерно, одно и тоже. Всё те же самые и куда-то вечно спешащие, крикливо одетые люди. Повсюду нелепое нагромождение из камней, стекла и бетона. Советские типовые строения, больше рассчитанные на квартироёмкость, чем на нечто другое, почти полностью сгладили старинные городские особенности, а то и совсем стёрли их со своей памяти. Они до предела упростили городской архитектурный пейзаж. Обезличили города. Сделали их блёклыми и похожими один на другой, словно на цыплят из инкубационной духовки.
Поначалу мне город Вильнюс, столицей не показался. В лучшем случае, он тянул на какой-нибудь заштатный российский областной центр. Ничего такого особенного я в нём не усмотрел. Город, как город, каких десятки и сотни. Особенно у железнодорожного вокзала и привокзальной площади. Приехал я поздно ночью. Знакомых в городе нет. Остановиться не у кого. Вокзал маленький и он весь забит «челноками-мешочниками» из Харькова, Полтавы и Минской области. Люди сидят на лавках. Спят на полу и где, кто устроился. На улице начало февраля и по-зимнему довольно прохладно. В вокзале же стоит спёртая духота. И хвалёным литовским порядком и чистотой здесь даже не пахнет. Правда, исправно работают ресторан и киоски. Из ресторана доносится музыка вперемешку с какими-то непонятными выкриками.
Деваться некуда, стал дожидаться утра на вокзале. Здоровье тогда позволяло, и особой усталости я не чувствовал, хотя и не спал почти двое суток. В сторонке от прохода выбрал чистое место и присел на свою дорожную сумку. Да так и просидел на ней до самого рассвета. А торговые люди, те покинули вокзал ещё раньше, ушли на базар с первыми трамваями. Мне же торопиться было не зачем. Пересев на освободившуюся скамейку, я ещё долго наслаждался более комфортным отдыхом, точнее, сидением.
Предстоящая встреча с Хризостомом меня не особенно волновала. С дальней дороги урчало в животе и совсем мало думалось. Глаза уже привыкли к вокзальной суете, а седалище вполне освоилось с железной скамейкой. Идти никуда не хотелось. Хотелось просто вволю покушать и потом хорошенько выспаться. Усилием воли, я подавил все эти желания, подхватил сумку, встал и вышел на улицу.
Дорогу к монастырю мне любезно показала пожилая киоскёрша. Слава Богу, ехать на общественном транспорте не пришлось. Оказалось, что от вокзала и до Свято-Духова монастыря отсюда – рукой подать. Свернув направо и миновав несколько кварталов по мощёной крупным булыжником улице и пройдя ещё немного дальше через старинное арковое здание, я и очутился перед воротами искомой обители.
За монастырскими воротами я никого не встретил. И куда все подевались? Минут десять вынужденного ожидания и топтания на одном месте ушло на лицезрение храма, обширного и довольно-таки ухоженного двора, братских корпусов и вечно шумливого воронья на красивой колокольне. Наконец, из дверей братского корпуса показался какой-то уж очень высокий и худой монах [245]. Прежде чем ответить на вопрос о Хризостоме, он внимательно посмотрел на меня изучающим взглядом, и только после, видимо удовлетворившись осмотром, указал своей тощей рукой на угол двухэтажного особняка, робко выглядывающего из-за храма. Слов от него я так и не дождался.
И мне это понравилось.
Поблагодарив черноризца, я бодрым шагом прошёл эти несколько десятков метров. И дальше, почему-то в нерешительности остановился. Остановился буквально в метре от входных дверей архиерейского особняка. Ещё не поздно вернуться и продолжить свою жизнь. Она манила не хуже той самой собачьей блевотины. Перед глазами встали лучшие мирские деньки. «Вот сейчас войду» - подумалось мне – «и с мирским прошлым будет покончено». Назад уже хода не будет. Однако замешательство моё длилось недолго. Наваждение, как пришло, так и ушло. И я смело толкнул тяжёлую дубовую дверь.
- Здравствуйте! – поприветствовал я прямо с порога средних лет женщину, сидящую за портативной пишущей машинкой.
Она с испугом оторвала взгляд от машинки и с удивлением посмотрела в мою сторону.
- Здравствуйте, - запоздало ответила женщина.
- Прошу прощения, вы не подскажите, как мне встретиться с архиепископом Хризостомом.
- Он назначил вам встречу?
- Да. Вот телеграмма, - и я протянул ей изрядно помятый телеграфный бланк.
Пока женщина близоруко всматривалась в печатные телеграфные буквы [246], я успел разглядеть интерьер и комнатную мебель. Скорее даже не комнатную, а офисную. Ничего примечательного заметить не удалось. Обычная секретарская комната, только с широкой лестницей наверх.
Убедившись в подлинности телеграммных слов, женщина сняла телефонную трубку и заочно представила меня архиепископу Хризостому. Потом подала трубку мне. Мембрана около уха неприятно задребезжала. И недовольный мужской голос пригласил меня подняться наверх.
Кабинет управляющего Виленской епархией Московской патриархии разительно отличался от секретарской комнаты. Ни до, ни после я не встречал подобных начальственных комнат. В хризостомовском кабинете, казалось, всё дышало роскошью и тонким изяществом. На какой-то изъян не было даже намёка. Здесь и воздух казался другим. И им хотелось дышать. Тонко пахло ладаном и розовым маслом. Сам хозяин стоял у книжного шкафа. Выглядел он неприметно и вполне по-домашнему.
- Здравствуйте, - поздоровался тише прежнего.
Иных приветствий я не знал, а если и знал, то они явно не подходили к этому человеку. Об архиепископе Хризостоме я знал мало. Впрочем, обо мне он знал ещё меньше. Та бумага, которую давеча я ему посылал, похоже, уже выветрилась у него из головы. Мои же познания, кроме архиерейской должности и его публичного признания о сотрудничестве с КГБ, дальше не распространялись. Так что, в некотором роде, мы оказались на равных. Правда, от него зависела моя дальнейшая судьба. Но это ещё как посмотреть. Архиепископ Хризостом высок. Но, всё же, выше него, да и выше всех нас - Господь Бог.
- Здравствуйте, - ответил, неожиданно, мягко хозяин столь роскошного кабинета. – Присаживайтесь за этим столиком, - и он указал на кресло у изящного журнального столика.
Я не заставил себя долго ждать и, поблагодарив хозяина, тут же уселся в шикарное кресло.
- Хотите кофе, чаю?
- Нет. Спасибо, не хочу.
- Вы желаете стать монахом? – начал беседу с такого вопроса Хризостом.
Я не поторопился с ответом. И правильно сделал. В вопросе Хризостома мне почудился какой-то скрытый подвох. Да и одного желания для монашества маловато.
- Скорее, дело не столько в моём желании, сколько в мирской жизни, которая не по мне и не для меня сшита.
- А как вы это определили?
- Со временем. И путём проб и ошибок.
- А поконкретнее, вы объяснить не можете?
- Могу. Только это займёт много времени. Да и как ни старайся, всё равно ведь всю жизнь одними словами не перескажешь.
Хризостом широко улыбнулся и впервые, за время нашей беседы, с неподдельным интересом посмотрел в мою сторону.
- Это верно. А знаете, будучи правящим архиереем Курско-Белгородской епархии, мне доводилось бывать в ваших местах. Правда, запомнилась только церковь, да одна тягучая и безвылазная грязь.
- Уж чего-чего, а грязи у нас хватает, - поддержал я Хризостома. И потом, немного смелее, добавил. - И если бы только одной грязи.
- А чего же ещё?
-Дикой дремучести и безысходности.
- Ну, этого-то добра хватает везде. Даже здесь его в заметном избытке, - Хризостом замолчал и, поглаживая пятернёй длинную бороду, на мгновение о чём-то задумался. – А скажите, как вы относитесь к современному католичеству и считаете ли вы правильным стремление к диалогу между папой и патриархом? – оторвав руку от бороды и посмотрев мне прямо в глаза, неожиданно спросил Хризостом.
Признаться, такого странного вопроса я от него не ожидал [247].
Да и кто я такой, чтобы со своей ничтожной высоты, а то и ямы, высказывать личное мнение по столь важной теме? И ещё вопрос, имелось ли оно у меня? Я ведь приехал в Вильнюс не на теологический диспут или симпозиум. Цель моего приезда проста, как школьная, начальная арифметика. И для меня дважды два всегда было в жизни четыре, а не «сколько вам надо или сколько изволите?». Ответ неприлично затянулся. Однако Хризостом меня с ним и не торопил.
Он всё так же пристально смотрел в мою сторону и терпеливо ожидал.
- Я - православно верующий человек, - наконец, сорвалось у меня с языка. – При надобности, святые отцы разговаривали даже с сатаной. А, насколько мне известно, папа Римский немного пониже будет. Так почему бы с ним и не поговорить, коль так уж кому-то приспичило.
После этой фразы, хозяин кабинета выждал мгновение, а затем, откинувшись на спинку удобного кресла, по-мужицки захохотал. Я ещё подумал – «а не сморозил ли я, какую глупость?». Закончив смеяться, Хризостом вытер платком набежавшие слёзы и как-то уж совсем по-товарищески произнёс.
- Пойдёмте в братский корпус, я познакомлю вас с монастырской братией.
Мы поднялись с кресел и дружно вышли из кабинета.
Братия завтракала в трапезной. Туда мы и пришли. При виде Хризостома монахи все почтительно встали. Хризостом махнул им небрежно рукой и представил меня, как брата такого-то и уже как послушника Свято-Духова монастыря. Игумену Ефрему он тут же дал послушание быть моим наставником и духовным поводырём. В трапезной владыка долго не задержался. Сделав своё дело, он вскоре ушёл восвояси. Он ушёл. А я остался. И сразу же был приглашён откушать, чем Бог послал.
Надо ли упоминать, что во время хризостомовской речи, даром времени я не терял? Успел рассмотреть многое, хотя и не всё. Монахов трапезничало мало. Я насчитал шестнадцать человек. И молодых и старых. Молодых кушало больше. На столах изобилие пищи меня поразило. От многочисленных блюд исходил такой призывный и такой аппетитный аромат, что я не выдержал и невольно сглотнул набежавшую слюну. После ухода Хризостома и приглашения к завтраку, я поставил сумку у двери и кое-как, помолившись, уселся за предложенный молодым послушником стул. Придвинул к себе только что поданную тарелку с горячим украинским борщом и торопливо приступил к трапезе. Покончив с первым блюдом, стал кушать второе. Потом наложил себе снеди ещё и ещё. Такой вкусной еды мне раньше не доводилось пробовать даже в якутских ресторанах.
Я всё ел, ел и никак не мог насытиться.
Понятное дело, в долгой и трудной дороге я изрядно проголодался. Но не одним же только этим объяснялся мой разгоревшийся аппетит. И, правда, всё приготовлено очень и очень вкусно. Может быть, даже слишком вкусно. Или мне это показалось? Нет, не показалось. «Хорошо живут монахи» - проплыло в довольном мозгу. Только вот сюда ли я попал? На столах стоят огромные хрустальные вазы с фруктами. Виноградные гроздья тянутся из них почти до самой скатерти. Рядом с хрустальными вазами высятся бутылки советского шампанского. Сливочное масло, творог, сметана, кефир. Жировая тихоокеанская селёдка [248]. Свежий жареный карп. Различные салаты, от овощных и до моего любимого - крабового. Несколько перемен первых и вторых блюд. Хотя всё здесь Сытно, обильно и очень вкусно, но, в моём понимании монашеская еда должна выглядеть несколько по-иному. Пусть и не с одним только сушёным горохом и студёной ключевой водой, но всё же…
По-иному.
Говорят, что дарёному коню в зубы не смотрят. Так же выходит и с этой едой. Свалилась же она мне на грешную голову! Да и было бы кому смотреть и осуждать. Кому угодно, только не мне окаянному! Чуть позднее приметил, что монахи особого рвения к еде не проявляют. Пьют и едят всё больше с ленцой. И в отличие от меня - голодного обжоры, едят они скупо и как-то, подчёркнуто неторопливо. Можно даже сказать, едят интеллигентно. До моего уха доносится не один только вилочно-ложечный стук. Хорошо слышно, как монахи о чём-то между собой переговариваются. Молодой послушник читает на кафедре поучения из святых отцов. Читает правильно. По выражению лица, ему, видимо, всё равно, обращают на него внимание или нет. Отцы думают и говорят о другом. И, похоже, поучения их не очень-то занимают. Всё давным-давно буднично, знакомо и привычно. Оттого и трапеза протекает медленно, и почти по-домашнему.
Немного насытившись и всё ещё, не прекращая кушать, я стал прислушиваться к отдельным монашеским репликам и словам. Интересно послушать, о чём же говорят эти люди в чёрном. Однако, как ни навострял свои уши, понять до конца их разговоров мне так и не удалось. Будто разговаривают на непонятном языке. Всё слышу и ничего не понимаю. А если что и понимаю, то не могу его связать с предыдущими фразами. Видимо, не дорос я ещё до полного понимания.
Совесть меня разбудила. Хватит! Так не долго и лопнуть. Усовестившись, я, с немалым трудом, отложил ложку в сторону.
Немного погодя, закончилась и общая трапеза. После благодарственной молитвы, все начали двигать стульями и чинно расходиться по своим кельям. По послушанию игумена Ефрема, брат рухольный [249] отвёл меня наверх, где показал там моё первое келейное место. Там же он выдал свежее постельное бельё. Какое-то время новоиспечённому послушнику предстояло пожить в проходящей гостиничной келье. Извинительным тоном, брат рухольный объяснил, что, какое-то время, надо потерпеть, а постоянную келью они вскоре подготовят. Чем-то я архиерею понравился и Хризостом уже распорядился. И что положение это временное…
Временное жильё меня мало волновало. Приходилось жить и в наихудших условиях. Но брату рухольному этого знать не обязательно.
От него я узнал о монастырском распорядке дня. Особой строгостью он не отличался. Утренняя служба начинается в шесть часов утра, в восемь - завтрак, в четырнадцать - обед и в двадцать вечера - ужин. Службы идут утром и вечером. Каждый день в кафедральном соборе случаются панихиды, отпевания и молебны. На всех службах присутствие совсем не обязательно, но, конечно же, желательно. Архиерей служит только по праздничным и воскресным дням. Из необходимых удобств, в братском корпусе, есть туалеты, душевые и сауна. Если, что не понятно, то можно обратиться за разъяснением к любому насельнику монастыря. И без всяких чинов. В любой помощи мне никто не откажет.
Ничего не скажешь, вырисовывалась обнадёживающая картина.
В первый же день своего пребывания, я познакомился с самым старым послушником Свято-Духова монастыря – дядей Колей. Сам он родом из Донецкой области. И в этом монастыре подвизается уже восемнадцать лет. На вид ему дашь больше восьмидесяти лет, хотя ему нет ещё и семидесяти. Зрение у него слабоватое, поэтому дядя Коля только вычитывает поминальные таблички и выносит на службах свечу. Больше ничего он не делает. Рукополагаться ему уже поздновато. Но ему не так плохо и послушником. Со своим теперешним положением он смирился. С ним окончательно освоился и привык. И ни на что другое, он теперь не согласен. Даже, если ему и предложат рукоположение.
С дядей Колей мы быстро сошлись. А несколько дней спустя, он уже со мной так разоткровенничался, что только успевай его слушать.
За свою жизнь дядя Коля успел побывать в нескольких монастырях. Находился по белому свету и намытарился вдоволь. Но задержался только вот в этом. С его слов выходило, что Свято-Духов монастырь очень богатый. Рассказчик заметно ностальгировал о прошедших годах. Ему казалось, будто при советской власти здесь жилось, куда лучше и вольготнее. С нынешним временем, не сравнить. И денег звенело в карманах больше, и мог он отправить посылочку запросто детям. А их у него ни много, ни мало, а целых трое душ. И все девочки. Правда, давным-давно уже замужем.
Но разве отцу от этого легче?
Теперь же, получается, что всего вокруг много: и в магазинах, и на базаре, и даже на улицах, а отправить детям на Украину посылочку – проблематично. Ничего не поделаешь – совсем другая страна. И эта тоже, уже не наша. Литва, то есть. Рассказывал дядя Коля и о насельниках. Кто, есть, кто. Не подробно рассказывал, а с неподдельной опаской и всё больше, вскользь. Тихо так рассказал, чтобы, не дай Бог, кто ненароком не подслушал и не донёс архиерею. Не осуждал, а горько сокрушался о маловерии братии в Бога. Что для меня явилось полной неожиданностью и откровением.
А ведь все монашествующие ходят в немалых чинах! В обители четыре архимандрита, три игумена, четыре иеромонаха, три иеродиакона и один диакон-целибат. Остальные послушники – дядя Коля, Иоанн - белорус и теперь вот ещё один - я.
Дядю Колю слушать, не наслушаешься. Словно прорвало старика. Говорит, что измучился весь в ожидании своих откровений.
Как такового, послушания у меня не имелось. Я ходил регулярно на службы. По много часов выстаивал их в старинном кафедральном соборе. Особенно любил бывать в пещерном храме, где в братской раке лежали святые Виленские мученики – Антоний, Иоанн и Евстафий. Вечерами молился и читал Библию. Несколько раз подолгу беседовал с игуменом Ефремом и другими насельниками. Беседовал, конечно же, не по своей прихоти, а по их инициативе. Игумен обнаружил у меня приличный слух и совсем неплохой голос. Он же благословил петь на клиросе вместе с певчими монахами.
Хризостом в братском корпусе появлялся редко. Всего три или четыре раза он присутствовал и на братской трапезе. Ел владыка очень мало и во время еды почти всё время разговаривал с одним из самых тучных насельников монастыря - архимандритом Никитой. И как я понял, говорил он не с простым архимандритом, а с будущим архиереем.
Как-то, пригласил меня дядя Коля на чашку настоящего цейлонского чая. В его келье я и спросил про архимандрита Никиту.
- При покойном архиепископе Викторине [250] он служил наместником Свято-Духова монастыря, - охотно просветил меня дядя Коля. И потом, прихлебнув горячего чая, добавил. – Вместе с местными работниками КГБ архимандрит Никита хотел тайно захоронить святых Виленских мучеников.
- Тогда почему же его хотят хиротонисать во епископа?! – возмущённо задал я резонный вопрос.
Дядя Коля посмотрел на меня как на маленького ребёнка. А немного погодя, пожав своими худыми плечами, еле слышно произнёс.
- Если зреть в корень, то загадка тут не слишком и сложная. Это для тебя она кажется такой трудной и неразрешимой. Ты неофит. Новоначальный значитца. И тебе ещё многое непонятно. Потому и простительно. Для нас же, кто давно уже в церкви, ничего непонятного нет. Эх, мил человек, мил человек, было бы желание стать епископом. Вера же и всё остальное, для епископской хиротонии, особой роли не играют. Их может и вовсе не быть, как у того же Никиты. Веры у него нет никакой. Это и слепой подметит. От себя могу ещё малость добавить – и никогда не было. Зато есть нечто другое - определяющее. Есть духовная академия за плечами, личная преданность и сослужение в КГБ. Для Хризостома и его кураторов такого «богатства» достаточно.
- А кто его кураторы?
- Митрополиты Кирилл Гундяев, Ювеналий Поярков [251]… может кто-то ещё. Ты что-нибудь слышал про Никодима Ротова? – неожиданно, задал вопрос дядя Коля.
Я отрицательно покачал головой.
- Имелся такой. Теперь уже на том свете мается. Митрополитил когда-то в Питере. А заодно, всё обивал пороги у папы Римского. И сам по себе обивал, дюже охочь был до католичества и по воле Лубянки. Сам понимаешь, без Лубянки раньше – никак. У папы Римского на коленях и сдох. Прости меня Господи, за такое бранное слово. Хризостом и его кураторы – ученики Никодима Ротова. Выходцы из его препоганого гнезда. Латиняне будут. Хотят соединиться с католиками и опоганить наше православие. Так-то вот, братец. Поди и не веришь услышанному? Ничего. Поживёшь немного в обители, пооботрешься, как следует и сам поймёшь правоту.
- Тогда, почему ты здесь находишься?
- А куда же мне деваться? Да и привык я уже. А тут думаю, чем я их лучше? Правду вижу, а живу всё по кривде. Самый настоящий фарисей и есть. Поят, кормят, крыша над головой. Не бомжевать же на улице.
- А если уехать к дочерям?
- У дочерей свои дети. Зачем мне их обременять. Нет, братец, об этом даже не говори. Доживаю здесь второй десяток. Здесь и помру.
- А как же Бог? И страшный суд?
- Чистый ты ещё человек. Сразу видно, что не побывал ты ещё в наших монастырях. Потому и задаёшь такие вопросы. Ничего не скажу. Правильные твои вопросы. Только человек я маленький. Маленький будет и спрос. Глядишь, Господь простит и помилует. Поздно мне выказывать святость и ютиться по разным углам. Ты-то – молодой. Ты ещё можешь повернуть вспять и поискать себе светлое и чистое место. Может и найдёшь. Знал бы, где оно и сам бы ушёл. Только не искать, а на готовое. Старый и больной я давно человек. Раньше искал. Не нашёл. А теперь уже не могу. Пойми меня правильно. И не осуждай. Помолись лучше за мои грехи.
После этого разговора с дядей Колей, в душе, словно что-то хрустнуло и надломилось. Сомнения пуще прежнего зашевелились в мозгу.
А тут ещё частое хождение монашек по братскому корпусу.
Родненькие мои!
Простите меня окаянного!
В пылу рассказа, я нечаянно упустил и совсем забыл упомянуть, что на территории Свято-Духова монастыря располагался ещё и женский монастырь Святой Марии Магдолины. Некоторые молодые монахини скромностью не отличались и часто захаживали в гости к своим братьям-монахам. Мне это очень не нравилось. Но, что я мог поделать?
Чашу же терпения переполнили два следующих случая.
В один из поздних вечеров, после молитвенного правила, я разделся в своей проходной келье до трусов и только, было, хотел улечься в кровать спать, как заходит одна стройная, молодая монашка и, с откровенным женским интересом, глядя в мою сторону, укоризненно так говорит.
- А не рановато ли вы ложитесь спать?
Не скрою, вопрос меня возмутил. И я чудом сдержался, чтобы ничего не сказать ей лишнего. А она, как ни в чем, ни бывало, продефилировала в келью к иеродиакону Мелетию.
Утром я рассказал об этом случае дяде Коле.
- Это ещё что! Тебе хоть ничего не слышно. Прошла и ушла. Эка, невидаль. Моя келья примыкает к келье Мелетия. Стенки тонкие и всё слышно. Понапьются вдвоём вина и потом горланят до утра советские песни. Хотя бы пели что-нибудь божественное, а то советское. Целую ночь спать не дают. Сто раз я уже говорил Мелетию и Хризостому тоже жаловался, но всё без толку.
Второй случай приключился дня через два, ранним утром.
Богослужение в кафедральном соборе начиналось в шесть часов утра. Об этом я уже упоминал. Собор же всегда открывался за пятнадцать минут раньше. Вместе с монахом-будильником, приходил к собору и я. Но в это утро я случайно перепутал время и встал на час раньше. Подумал, что проспал. Быстро оделся, умылся и, с молитвенной мыслью мытаря, заторопился на выход к собору. Спускаясь с третьего этажа, увидел, как из иеромонашеской кельи вышла очень красивая девушка. А следом за ней вышел и отец иеромонах. Он с порога её проводил и сразу же вернулся в свою келью. Я оторопел от чужого греха и замер от стыда и неловкости. Отец иеромонах зашёл в свою келью, а меня не заметил.
Проводы девушки явно указывали на плотскую связь. Грех-то чужой. Но зачем он мне? На верху Мелетий. Здесь иеромонах и архимандрит Никита. КГБ, никодимовщина…
Слава Богу, что за две эти монастырские седмицы мне и в голову не пришло исповедаться и причаститься! Бог миловал.
Не пора ли бежать?
Наверное, пора.
С вечера приложился я к святым мощам Виленских мучеников, попросил их молитвенного заступничества и поутру отбыл на родину.
+ + +
Долго я отходил от монастыря. Написал Хризостому письмо и попросил прощения за свой поступок. Всё же, надо было уйти попрощавшись. Хризостом ничего не ответил. Видать, не один я у него такой прыткий. Узнав о моём возвращении, приехал просить на прежнюю работу председатель. Зашевелились знакомые и родня. Больше стало на хуторе смеха и поддёвок. Но мне было не до мирской суеты. От общественной работы я отказался. А хуторяне вскоре привыкли и поутихли.
Год или два я так и прожил, будто между небом и землёй. Теперь уже и не помню, как время то и прошло. Жил словно в тумане. Хорошо, что по жизни встречаются неравнодушные люди. Одним из таких людей оказался мой самый близкий друг детства – Александр Сергеевич Погребной. Он-то разогнал и развеял этот туман. Мы родом с ним из одного хутора и даже немного сродни. После окончания агрономического факультета Курского сельскохозяйственного института, Шурик [252] всё время работал в Медвенском районе Курской области. Работал на одном и том же месте. И работал успешно, дослужившись до директорского кресла крупного опытного хозяйства от ВАСХНИл.
Приехав к родителям в гости и узнав от них о моём неудачном паломничестве в монастырь, Шурик, как-то, сказал.
- А ты помнишь Валерку Рожнова?
- Как же забыть. Мы же учились с ним в одной группе.
- Сейчас он священник. Только не нашей церкви.
- А какой? – невольно вырвалось у меня.
- Зарубежной, - ответил Шурик.
Для меня это название тогда ничего не значило и ничего не говорило. Более того, я раньше о нём никогда и не слышал.
«В баптистах он, что ли?» - первое, что пришло мне в голову.
- Если хочешь, поехали. Он недалеко от меня живёт, - предложил Шурик.
- Поехали, - согласился я на предложение друга.
Двигал мною не только один интерес к непонятному Валеркиному священству. Я знал, что Рожнов работал у Шурика парторгом. И в 1988 году он, всё ещё, будучи парторгом, приезжал ко мне со своими демократическими идеями [253]. Из парторгов, да прямо в попы, явление не такое уж частое. Но, повторюсь, двигал мною не один этот интерес, хотелось ещё и просто повидать своего институтского приятеля. Как-никак, а не виделись мы с ним лет шесть или семь.
В этот год лето дождями не баловало. Однако майских ливней для растений хватило. В воздухе приятно пахнет горькой полынью и спеющими хлебами.
Чувствуется, что скоро жнива.
Сто тридцать километров мы проехали быстро. Остались позади Прохоровка, Обоянь, Медвенка. После Медвенки с федеральной трассы повернули направо. Проехали через большую деревню Панино. С километр дорога пошла на бугор. И с него уже открылась деревня Амосовка. Со слов Шурика, там и проживает отец Валерий Рожнов. А вот какой он отец, это мы ещё посмотрим. Посмотрим и разберёмся. У дома культуры, на каменном постаменте, лежит огромная голова вождя мирового пролетариата. На туловище и ноги бронзы, видать, не хватило. Чуть дальше поблёскивает малюсенький куполок, не то часовенки, не то церквушки. На пригорке стоят крестьянские дома и хозяйственные постройки.
Отец Валерий нашему приезду несказанно обрадовался. И нежданных гостей встретил с распростёртыми объятиями. Встретил по-русски, как и полагается. Матушка Лидия тоже обрадовалась, заулыбалась. Меня вспомнила и тут же засуетилась с питием и закусками. Минут через двадцать у неё уже всё было готово. Матушка пригласила за стол. Мы уселись и отдали должное её угощению. За столом разговаривали мало. Если о чём и говорили, то, в основном, об общем: о погоде, урожае и тому подобное. После столь сытного и обильного угощения, Шурик не стал с нами засиживаться допоздна. Поблагодарив гостеприимных хозяев, он уехал к себе домой. А мы с Валерой остались в доме.
Тут-то он мне и поведал о Зарубежной и Катакомбной Церкви.
Говорил отец Валерий с невероятным подъёмом и долго. Он любит и умеет поговорить. Этого у него не отнять. Слушаешь, слушаешь и бывает, заслушаешься. Чувствуется ещё та подготовочка. Впрочем, он и в институте особой молчаливостью не выделялся.
Потом я стал задавать ему вопросы. А он на них отвечать. Некоторые ответы отца Валерия меня не удовлетворяли. Я перешёл к переспрашиванию и уточнению. Монолог отца Валерия постепенно угас и вскоре перешёл в диалог, а позднее и в спор.
Времени мы не замечали. Оно для нас остановилось. О времени напоминала лишь матушка Лидия, изредка появляясь пред нашими очами со своими кулинарными предложениями. Проговорили мы с отцом Валерием часов восемь, если не больше. Разговор продлился бы и дольше, но мне пора было добираться домой. Дома остались корова, телёнок и куры. Отец Валерий сам крестьянин и хорошо понимал моё беспокойство. Он довёз меня на своей машине до автобусной остановки. Там, на прощание, вручил целую кипу различной церковной литературы. На том мы с ним и расстались.
Первая наша встреча особого впечатления на меня не произвела, хотя и запомнилась. Отец Валерий расширил мой кругозор. Это верно. И я почувствовал его начитанность и определённую осведомлённость. И всё же, несмотря на всё это, ни в чём убедить ему меня не удалось.
Обратная дорога домой получилась длиннее. На автобусе я доехал до Курска. В Курске пересел на трамвай. Трамвай довёз меня до железнодорожного вокзала. И оттуда, уже на электричке и ночью, я добрался до Прохоровки. В Прохоровке переночевал у родного брата и только рано по утру очутился дома, на хуторе.
За неделю я всё перечитал. Перечитал и не насытился. Раз или два съездил снова к отцу Валерию и перечитал новые кипы церковной литературы. При крестьянской занятости и при такой дороге, со столь частыми пересадками, много не наездишься. Между нами завязалась переписка, в которой споры продолжились. И не утихали они года полтора. Отец Валерий, потеряв всякую надежду меня убедить, в одном из своих писем даже отказался от своего учительства.
Не сразу я пришёл к пониманию истины.
Ох, не сразу.
А сколько обо всём и всего передумал?!
О том и не рассказать.
Только чудом Божьим можно определить и объяснить моё прозрение. И случилось оно в один день. Отделилась правда от кривды. И в один день, мне всё стало ясно и понятно. Как Божий день стало ясно и понятно, что Московская патриархия вовсе никакая ни церковь, а просто один из властных и морочащих людям голову, придатков советской, а теперь и нынешней жидовской власти. Так-то, вот, детушки. Почему же я так упорно и столько времени спорил? Бог весть.
И до сих пор, не ведаю.
Через малое время я стал прихожанином Петропавловского прихода Русской Православной Церкви Заграницей, что в деревне Амосовка, Медвенского района, Курской области. А отец Валерий Рожнов из студенческого друга превратился ещё и в духовника-наставника. С его подачи и его трудами, и началось моё духовное просвещение. О духовном восхождении писать убоюсь, ибо было ли оно и есть ли, то не мне, а лишь Богу ведомо.
Часто ездить в Амосовку я не мог. Пахотная земля и крестьянская живность требовали постоянного пригляда. Обратно же, отец и хуторяне нуждались в помощи. Если получалось три или четыре раза в году исповедаться и причаститься, то и то хорошо. Иной раз, отец Валерий звонил мне по телефону и приглашал на незапланированные поездки. Такие поездки совершались не только к нему в Амосовку, но и в Белгород, Курск или ещё куда, по этим же областям. Знания мои пополнялись быстро. И вскоре я уже отставал от отца Валерия шага на два, а может и меньше. По крайней мере, так мне стало казаться не тогда, а потом.
У отца же Валерия дома, я познакомился почти со всеми священниками Курско-Белгородского округа РПЦЗ. И не только со священниками, но и с другими, видными прихожанами округа. Их благородная и подчёркнуто интеллигентная спесь мне не понравились. Каждый уже что-то там написал и как-то себя уже проявил. Понятное дело, все мы не без греха, но их гордыня и высокомерие, уж, слишком бросались в глаза. Особенно это было заметно за трапезным столом, где, едва ли, не каждый пытался блеснуть своим умом или же красноречием и хоть как-то, но выделиться из общей и затрапезной массы.
Эти люди могли часами говорить на такие малознакомые и малопонятные темы, о которых я имел самое смутное представление или же, вообще, о них не догадывался. Впрочем, я тоже мог часами им говорить о Северах, об армейской жизни, о крестьянстве, Свято-Духовом монастыре и ещё много о чём другом. Мог и по фене сботать. Было бы кому оно интересно. Их же почти не волновало окружение. А если и волновало, то постольку поскольку. Больше всего они заботились о своём имидже или же, что о них потом скажут. Ещё тогда мне подумалось о шаткости и непрочности приходов РПЦЗ в России. Подумалось ещё и о том, что если все точно такие же представители РПЦЗ, как эти самые священники и видные прихожане, то не миновать нам вскоре беды. При первой же, пусть даже и самой слабой качке, повалятся они словно городошные палочки.
Не приведи, конечно, Господь!
Многие священники вышли из недр Московской патриархии и в РПЦЗ их приняли через покаяние [254] в сущем сане. А остальные священники являлись верными учениками тех же самых бывших патриархийных батюшек. Особой разницы между МП и РПЦЗ не наблюдалось. Разве, что чуть больше критики в адрес правящих властей, гораздо больше гонору и демократической развязанности. И как следствие, меньше порядка, организованности и церковной дисциплины. Вкупе с почти полным отсутствием архиерейского пригляда, многие священники РПЦЗ казались людьми совершенно случайными, весьма далёкими от исповедничества. Казались людьми поверхностными и, прошу прощения, недостойными священнического сана. Да и сам отец Валерий, как бы в подтверждение моих тревожных мыслей, отзывался о некоторых своих собратьях в самом неприглядном тоне.
Один раз и мне пришлось высказать отцу Валерию упрёк, за несанкционированную читку моих писем известным курским отцом Ал. Отец Ал., читал их, никого не стесняясь, в комнате отца Валерия. Грешным делом, мы часто проступки людей осуждаем и измеряем по своим меркам. Дело не в осуждении, но как можно читать чужие письма без разрешения?
У меня это не укладывается в голове.
В посёлке Строитель, что рядом с Белгородом, на только что образовавшемся приходе РПЦЗ, прихожане [255] неожиданно избрали меня кандидатом в священники и письменно попросили правящего архиерея рукоположить меня на их приход. Ну, что ты скажешь?! Получалось, как в той присказке – «без меня, меня женили». Хоть бы кто предупредил или поговорил со мной предварительно. Это кандидатство свалилось на меня, как снег на голову. О несогласии кандидата и думать никто не хотел. На моё же словесное и душевное недоумение, с примесью вполне законного возмущения, отец Валерий лишь молча опускал глаза долу и виновато разводил в сторону своими могучими, плотницкими руками [256].
Мол, если не ты, то кто?
Послушание уже тогда не являлось для меня пустым звуком. Я повозмущался, повозмущался. Подумал – «и, правда, если не я, то кто?». Делать нечего. И отступать не хочется. Ещё раз подумал. Многое взвесил. И от безысходности, взял, да и согласился.
Однако посылать меня сразу же на рукоположение к правящему архиерею отец Валерий не поторопился. Тогда он ещё служил простым настоятелем прихода, и брать на себя столь ответственное благословение ему показалось не с руки. Над отцом Валерием имелись и другие, вышестоящие батюшки. Не его, а только их благословение могло оказаться для архиерея решающим. Во всяком случае, так он мне тогда объяснил. Одним из таких авторитетных батюшек, несомненно, являлся благочинный Курско-Белгородского округа, Одесско-Тамбовской епархии РПЦЗ - игумен Григорий (Кренцив) [257], в недавнем прошлом – настоятель Курской Коренной пустыни Московской патриархии.
Отец Валерий подробно мне о нём рассказал, дал адрес и по-отечески благословил в дорогу на послушание. Дорога выходила не длинной. Игумен Григорий, с Божьей помощью, строил первый в России мужской монастырь РПЦЗ в селе Семаевка, что не так далеко от города Старый Оскол. Получив от отца Валерия подробные инструкции по будущему послушанию и ещё различные напутствия на всякие случаи жизни, в один из погожих майских дней 1998 года, я и отбыл на указанное им место.
Дорога до Старого Оскола хорошо мне знакома. Даже если и захочешь, то не заблудишься. Не в такие веси летал. Одна Якутия чего только стоит. А тут – дело домашнее. Всё рядом и почти что под боком. Да и знаменитый Оскольский электрометаллургический комбинат – это вам не иголка в стогу сена. От него же и до Семаевки, всего лишь, несколько километров.
Добрался я и до этой веси. Прямо с дороги виднеется молочно-товарная ферма [258]. Ниже по склону и до самой речки тянется широкий луг. За речкой, в двухстах шагах от неё, зеленеет сосновый лес. Лес большой. И не видно ему ни конца и ни края. Земля песчаная. В воздухе стоит духота. Под треск высоковольтной линии, доносятся частые переругивания скотников и доярок.
А где же монастырь? Спросите вы. Есть и монастырь. Строящаяся обитель расположилась ближе к лугу, за коровьей фермой. Виднеется угол недостроенного братского корпуса и рядом с ним стоит приземистое двухэтажное здание из белого силикатного кирпича. Работающая бетономешалка, огромные цементные мешки, кучи песка и щебня указывают на малое строительное производство. И, похоже, что оно в самом разгаре. Мою догадку подтверждают плохо одетые трудники и сохнущие бетонные блоки. Блоки разложены аккуратными рядами на досках, а высохшие уже сложены в пирамиды. Со стороны двора слышен истошный визг циркулярной пилы. Заглушить его ничем невозможно.
Дерево мне ближе бетона.
Потому и иду я не к трудникам, а на звук циркулярки.
На ней увлечённо работают два монастырских брата. Работают быстро и вполне профессионально. Распиливают доски на бруски и на рейки. Братья дюжие и свиду не слишком весёлые. Но на мой вопрос об игумене ответили оба охотно. Оказывается, игумена в монастыре нет. С их слов, он уехал в Курск на приём к генералу Руцкому [259]. А когда приедет, того им неведомо. Если не сегодня ночью, то, может быть, завтра. Без игуменского благословения оставаться в монастыре мне не хочется. А дьявол тут, как тут. Он коварен и хитёр. Из двухэтажного здания вышли к братии две молодые женщины.
Тут же начались сомнения и искушения…
«Приеду в следующий раз» - подумалось мне. Развернулся и ушёл восвояси. А к вечеру был уже у себя дома, на хуторе.
Родненькие мои!
Не простое это дело – становление на монашеский путь. Еще, какое не простое. Как только подумаешь о нём, тут же тебе и искушения, и мирская жизнь начинает казаться чище и слаще. И многое, многое другое. Прямо стена невидимая встаёт на пути. Упрёшься в неё лбом и стоишь, словно пень недвижимый. Спасаться можно и в миру. Спору тут нет. Между мирской и монашеской жизнью разница есть небольшая. Если путь монашеский и короче, то он гораздо тернистей, и, стало быть, гораздо трудней. Вот и вся разница. Но это я понял не тогда, а значительно позднее. А тогда же, приехав домой, сильно опечалился и крепенько призадумался. Расхотелось мне становиться монахом. И в миру жить тоже давно расхотелось.
Вот и думай тут, как же дальше-то быть?
Вспомнился и Серафим Саровский, и другие наши святые. Они далеко не каждого благословляли в монашество. Святые отцы наши понимали, какое это не простое и трудное дело. Понимали и немощь человеческую, и на себе испытали силу нечистую. Видели в человеке его духовные возможности, с ними и соизмеряли мирской или монашеский путь. И это в то время, когда ещё стояли на святой Руси крепкие православные монастыри. Со старцами и святыми отцами. С настоящими, а не с мнимыми поводырями. При православном царе-батюшке. При империи православной.
А сейчас-то, что?
Творится в мире такое, что и не приведи Господь.
Не один день и не одну ночь одолевали меня искушения. И дольше бы одолевали, и глядишь, одолели бы, если бы не игумен Григорий. Седмицы через две, он приехал ко мне домой. Зашёл в светлицу. Перекрестился на образа. Присел на предложенный стул. И сразу же о чём-то призывном, и о святом заговорил. Разговор его всё длился и длился…
Я не выдержал и спросил.
- Я нужен тебе, отче?
- Нужен.
- Тогда поехали.
Таким вот образом, и только со второй попытки, мне удалось попасть в монастырь. Но уже в монастырь не патриархийный, а в самый, что ни на есть, настоящий - зарубежный. Устав строгий. Молитва постоянная. Работа тяжёлая. А пища лёгкая. Всё, как и положено по преданиям и воспоминаниям святых старцев.
Упрекнуть и обвинить себя не в чём.
Что искал, то и нашёл.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Монашеский искус. (Продолжение)
«Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить его, потому что Он не благоволит к глупым: что обещал, исполни».
(Книга Екклесиаста или Проповедника. 5. 3, 4).
Сразу же по приезду в монастырь, отец Григорий дал мне первое молитвенное послушание. Он же определил на работу. И выдал для изучения первую литературу – пособия для новоначальных монахов. О том, что я уже посещал монастырь, игумен не знал. А, узнав от меня – удивился. Тяжёлая работа и лёгкая пища многих людей отталкивала от послушания. Плюс ко всему, ещё постоянные и долгие молитвы. Не каждому это приходилось по плечу. Трудники часто не выдерживали и уходили в мир. Но свято место пусто не бывает. На это место приходили другие люди. И работа в монастыре, то затихала, то начиналась с новой силой.
Мой день начинался в пять часов утра.
До шести утра, то есть до утреннего правила, я собирал постель, умывался на улице холодной водой, будил братию и без десяти шесть уже стоял на клиросе, приготовляясь к чтению утреннего правила. До монастыря мне думалось, что я вполне прилично читаю по церковно-славянски. Однако при первом же прочтении утреннего правила, отец Григорий насчитал более ста семидесяти ошибок. Такое огромное количество ошибок повергло меня в растерянность и уныние.
Каждое утро игумен считал мои ошибки. Со временем их количество уменьшалось. Но уменьшалось так медленно, что ему пришлось наложить на меня епитимью. Епитимья показалась вначале не трудной. Занимала она не больше часа. Но зато, какого часа! Я вставал с постели и сразу же бежал через весь луг на источник. Там набирал ключевую воду и приносил её затем в монастырь. На ней повара готовили пищу. Ручеёк на источнике тёк тоненький. Вода в десятилитровую ёмкость набиралась медленно. Дабы не опоздать на молитву, я стал просыпаться в четыре часа утра. А ложился спать за полночь. Почти всё лето, до окончания епитимьи, спать более четырёх часов в сутки у меня не получалось.
Отец Григорий, брат Михаил [260] и пишущий эти строки спали в храме. Остальная братия ночевала в крестьянском доме. Отец Григорий располагался на ночлег в ризнице. Брат Михаил – в пономарке. Моё же место доставалось на полу.
Утреннее правило длилось до девяти часов утра. За три часа я вычитывал утренние молитвы, главы из Евангелия и Ветхого Завета, две или три кафизмы из Псалтири, что-то читал по Минеи и из поучений святых отцов Церкви. Потом мы шли на работу. Завтрак и обед обычно совпадали по времени. И до них мы успевали вволю наработаться и сильно устать. После еды снова работа до темноты. Затем лёгкий ужин и вечернее правило. Почти всегда вечернее правило затягивалось заполночь. Помимо всех вечерних молитв, я читал и пел акафисты и вычитывал дневную службу по Минее. Молиться мне нравилось, поэтому особой усталости я не чувствовал. Единственное, что утомляло, так это физическая работа.
Её же меньше не становилось.
В братском корпусе и просфорне мы постелили полы и подшили потолки. Построили ферму для коз. Утеплили потолки на зиму. Убрали урожай с огорода. Все строительные работы мы начинали с нуля. Вначале ехали в лес и валили там сосны. Грузили их на бортовую машину и привозили в монастырь. Брёвна кряжевали, шкурили, тесали. Часть брёвен отвозили на пилораму и распиливали их там на доски. То есть, вначале подготавливали материал и только потом уже плотничали.
Работа ещё усложнялась тем, что помимо моего строительного опыта [261], у всей остальной братии, никакого опыта, вообще, не наблюдалось. Кто мог работать с плотницким инструментом, тот давно покинул обитель. А вновь пришедшие почти все оказались строительными неофитами. Кто-то из них пришёл из бродяжничества. Кого-то привезли родители, спасая от алкоголизма и наркомании. А кто-то вернулся из мест не столь отдалённых или скрылся в обители от «правосудия».
Народ подобрался, хотя и пёстрый, но, вполне мне знакомый и по-своему, даже небезынтересный. Послушать их похождения – и романов читать не надо.
Чтобы научиться читать по церковно-славянски, читать безошибочно, потребовалось месяцев пять, а то и все шесть. Ближе к осени и уже самой осенью рабочее время уменьшилось, зато увеличилось время молитвенное. Зима приближалась. И в конце ноября, неожиданно, ударили сильные морозы. Таких морозов на моей памяти не случалось. По утрам столбик термометра опускался до тридцати градусов. И это при малоснежии. Храм отапливался плохо. Трубы отопления вскоре размёрзлись. Их в один день починили. Но всё равно, спать на полу стало холодно. Пришлось на пол подложить ещё дверь. Дверь немного спасала от холода. Долгое время я на ней согревался и только потом засыпал.
Однажды, я проснулся от какого-то постороннего кусочка тепла. Этот кусочек тепла находился у меня на груди. Я потрогал его рукой и пальцами наткнулся на спящего мышонка. Мышонок пискнул во сне, но остался на месте. Он уютно устроился и видимо, так угрелся, что ему было совсем не до человеческой руки. Я его осторожно снял и положил на пол. А сам сразу заснул. Каково же было моё удивление, когда и на вторую ночь мышонок снова пришёл ко мне спать. На этот раз я его пожалел. Не стал будить маленького храбреца и оставил его на месте. Недели две или три мы спали с ним вместе. А потом мышонок куда-то пропал. Наверное, нашёл себе более безопасное и подходящее место для сна.
Восемь месяцев я пробыл на послушании в строящемся монастыре. За это время отец Григорий благословил меня чётками, подрясником и скуфейкой. Но с монашеским постригом он не спешил. Отец настоятель ожидал приезда епископа Михаила (Донскова), чтобы сразу же после пострига, он рукоположил меня во диакона. Или же епископа Евтихия (Курочкина) [262].
Викарный епископ Михаил (Донсков), как, в прошлом и епископ Варнава (Прокофьев), находился в России с исключительными полномочиями. И получил он эти полномочия не по случаю, и не на Нью-Йорском рынке, а у авторитетного Синода РПЦЗ. Удивительно ещё и то, что при наличии трёх правящих российских архиереев, епископ Михаил почему-то считался среди них старшим епископом. Что, конечно же, противоречило церковным правилам и всякому здравому смыслу. Такое положение настраивало российских преосвященных против церковной политики Зарубежного Синода. Оно всё время заставляло их искать выход из сложившегося унижения, недоверия и мягко говоря, нелогичности.
Трудностей же и искушений хватало и для меня.
Нельзя сказать, что монастырская жизнь протекала так уж легко и плавно, как это могло показаться со стороны, то есть протекала без волнений и различного рода штормов. Случалось всякое. А ничто человеческое не чуждо и мне. Да и я не святой.
Прости меня, Господи!
Грешен!
И, слава Богу, что многое довелось перетерпеть и перестрадать. Теперь я на это не сетую. На то она и жизнь, чтобы спасаться трудностями и скорбями, скажите вы. И правы будете. Но сказать правильно, это одно, а делать и поступать по-христиански, совсем другое. Причины же жить по-другому, всегда найдутся. И за ними далеко ходить не надо. Дай только слабинку и они сами, к вам прибегут.
Монастырский пример поучителен. Посудите сами. Долгое время одна из «любвеобильных» трудниц усиленно искала моей благосклонности. И совсем не просто было мне устоять. Плюс ко всему, постоянное недоедание и тяжёлая физическая работа. Кажущаяся безысходность и оставленность, всеми и вся, тоже давила на нервы и психику. Всё это в совокупности, истощило мои силы до крайности. Я не выдержал. И к началу февраля 1999 года принял решение оставить монастырь.
Никто нам за это время ничем не помог и даже не сказал ни единого поощрительного или одобрительного слова. Не говоря уже о какой-то там материальной помощи. Мы не молчали. Мы писали и били челом с просьбой о помилосердовании и нашему Первоиерарху - митрополиту Виталию (Устинову), и нашему земляку - иеромонаху Паисию (Малыхину). Обращались к ним в Канаду и США. Просили хоть чем-то помочь митрополита Киприана из греческого Синода Противостоящих. Слёзно взывали о помощи и к некоторым другим известным и далеко не самым бедным людям. И что вы думаете? Хоть кто-то откликнулся и чем-то помог? Увы! Все наши благие призывы так и остались тщетными. Никто нам и слова не ответил.
Странно! Не правда ли?
Правда, мы тогда ещё не знали и даже не догадывались, что на церковных и политических верхах уже назревают такие события, которые потом потрясут весь православный мир и заставят нас поколебаться и: одних - отойти от Божьей истины и примкнуть к новым фарисеям и книжникам. Других - ещё теснее сплотиться и хотя бы на малое время, но пожить ещё в Церкви Христовой. А кого-то, эти же грядущие события, так и вообще, оставят потом за бортом всякой надежды на спасение. Повторюсь ещё раз, мы, о грядущем невиданном предательстве и потрясении, ничего не знали и даже не догадывались.
Отец Григорий долго меня уговаривал от решительного шага. Ему не хотелось отпускать меня в этот мир. Не хотелось расставаться со мной. Мне тоже не хотелось расставаться с ним и с монастырской братией. Но иного выбора не оставалось. На мою беду, дьявол уже посеял ростки недоверия между отцом Валерием и игуменом Григорием. И у каждого из них уже появилась своя правда. На то время, отец Валерий всё ещё оставался мне гораздо ближе, чем игумен Григорий.
И правда отца Валерия казалась мне безупречной.
Родненькие мои!
Ваш покорный слуга специально опустил все подробности многочисленных искушений. Как и во всяком человеческом общежитии, они неизбежны. А в монастырском общежитии искушения неизбежны тем более. Для праздного же и легковесного ума они, возможно и интересны. Однако не станем уподобляться судам и пересудам. Не станем искать те глубинные причины, послужившие мотивом или толчком для моего ухода из монастыря. Да и имелись ли они? Наверное, всё же имелись. Как бы там ни было, но, попрощавшись со всеми и со слезами на глазах, я ушёл из обители.
На хуторе долго не задержался и вскоре приехал к отцу Валерию. Разговор у нас с ним вышел длинный. Моему другу, духовнику и наставнику хотелось, как можно быстрее устроить мою монашескую жизнь. Он вслух перебрал множество разных вариантов. И, наконец, остановился на архиепископе Лазаре (Журбенко) – правящем архиерее Одесско – Тамбовской епархии РПЦЗ [263].
- Поедешь в Одессу? – спросил меня батюшка.
- Конечно, поеду, - ответил ему, не раздумывая.
Раздумывать я начал потом, в скором поезде Харьков – Одесса. В холодном и полупустом вагоне думалось не только о предстоящей встрече с Лазарем, но и о своём послушании в монастыре. Тогда я уже так не стыдился своего поступка. От монастыря вполне оправился и отошёл. В том заслуга и моего наставника. Отец Валерий помог, успокоил. А на дорогу он щедро снабдил меня сопроводительными письмами и характеристиками. Расписывая в них своего друга в самом лучшем виде и на все лады. Оно и понятно.
Бумага-то всё стерпит.
За собой же я начал замечать ещё одну странную вещь. При нежелательности, не говоря уже о вредности любой встречи, знакомства или наихудших перемен, я отчего-то стал заболевать какой-нибудь простудной болезнью. Такая странность появилась у меня с некоторых пор. И я, грешным делом, подумывал, что не иначе, как эта «награда» дана мне в довесок к слабой памяти на женские имена. Не миновал я своей новой странности и на этот раз. В вагоне сильно простудился и приехал в Одессу с воспалением лёгких. Меня, поминутно бросало, то в жар, то не находил я себе места от холода.
«Жемчужина» у моря произвела на меня жуткое впечатление. Кучи мусора и собачьи стаи, множество бездомных людей тут же выросли и встали перед глазами. Такой городской грязи и такой дикой неухоженности мне не доводилось видеть даже на Северах. У вокзала сырой и пронзительный ветер гнал мусор по улицам. Плохо одетые люди что-то кричали и появлялись, казалось везде. С сальных лотков продавалась какая-то снедь. Одни меняли деньги по-тихому. Другие громко и наперебой предлагали извоз и постель. Где-то занудно и почти непрерывно звонил трамвай. «Слава Богу, что не слышно фабричных гудков». Но и без них, создавалось такое впечатление, будто я попал не в конец двадцатого века, а в самый канун революции или же на второй её день.
Меня трясло в лихорадке, сильно знобило. Я сокрушался и температурил. «Принесло же меня в эту хвалёную Одессу!». «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!». С тем и добрался до храма в честь святого Иоанна Кронштадтского. Там меня испытали на лояльность [264] и только после этого указали дорогу на Великий Дальник – резиденцию правящего архиерея Одесско - Тамбовской епархии РПЦЗ.
От Одессы и до Великого Дальника путь показался коротким. Не успел я освоиться, как маршрутка домчала до остановки. А само село протянулось на многие километры. От старожилов после услышал, что, оно самое большое в Европе.
Не знаю. Может и так.
Владыка Лазарь встретил меня приветливо. Даже показалось, что, с первого взгляда, я ему чем-то приглянулся. Держался он просто и без всяких чинов. Из братии в архиерейском доме находились: иеромонах Афанасий, иеродиакон Поликарп и иподиакон Роман. Варила пищу и прислуживала за трапезным столом трудница из Херсонской области. Имя её я запамятовал. Помню только, что она всё время просила Лазаря отпустить её, как можно быстрее домой.
Первым делом, я передал владыке бумаги от отца Валерия. Он их неохотно взял и тут же при мне прочитал. Тогда-то я и узнал их полное содержание. После прочтения бумаг и обеда, Лазарь расспросил меня о том и о сём. Где родился, как жил. Выслушал внимательно и не перебивая. Затем он начал говорить о себе. Вначале посетовал на плохое здоровье и ещё на своих нерадивых помощников. А после стал рассказывать о прошлой катакомбной жизни. За язык я его не тянул. Сам разговорился. Говорил он тихо и долго. С заметной ленцой в голосе. Рассказывал нехотя, будто в сотый раз повторяясь. Потом по-старчески спохватился и спросил о здоровье моём. Видимо, простуда меня выдавала. Иначе, зачем тогда спрашивать?
И в самом деле, чувствовал я себя скверно.
Узнав о жестокой простуде, он сразу же велел постелить на диване постель. И далее стал проявлять отеческую заботу, то, принося лекарства, то, поправляя подушку или же одеяло. Пролежал я четверо суток. Здоровье моё не улучшалось, а, наоборот, ухудшалось. Думал – «Вот помру у монахов и предам им заботу. Если и помирать, так уж лучше дома, на хуторе».
Попросил Лазаря благословить на обратную дорогу.
Он спросил.
- Почему? – и потом сразу же продолжил. – Оставайся со мной. Ты ещё такой молодой. Болезни этой не бойся. Болезнь ты свою одолеешь. Сам же видишь, какие трухлявые столбы меня подпирают. Ну, скажи, как мне с ними дальше служить?
- А владыка Агафангел? – вырвалось у меня ненароком.
Услышав это имя, архиепископ Лазарь весь передёрнулся. Метаморфоза с ним совершилась мгновенно. Мерзкая метаморфоза. На моих глазах, из невинного и лилейного «агнца», он преобразился в страшного и зубастого «волка». Обретя настоящую сущность, он очень пристально, строго и изучающе на меня посмотрел. Посмотрел так подозрительно, так холодно и остро, что, на время, я даже позабыл о болезни. Затем, словно, кого-то, проклиная, Лазарь беззвучно пошевелил посиневшими от гнева губами. И только после этого, со злобой и скорее для себя, чем для меня, произнёс.
- Агафангел всё сидит в Одессе. И всё брешет, будто места ему нету в Симферополе [265]. Ждёт, не дождётся моей смерти. И зачем я только этого жида рукополагал?
Вот уж никогда не думал и даже представить не мог, что у Лазаря может быть такая болезненная неприязнь к Агафангелу!
На обратном пути я и о том размышлял. Но в голове мысли путались. И причиной путаницы не одно лишь воспаление лёгких со всеми его потрясениями и миазмами. Перед моими глазами всё ещё маячил волчий взгляд преосвященного Лазаря. И память упорно не хотела стирать запечатлённую ненависть православного архиерея к своему собрату епископу. Выводов я не делал. На это сил не хватало. И всё же, вольно или невольно, до меня начало, наконец, доходить то сомнение, на котором, подчас, строится, а потом и зиждется наше человеческое уныние и разочарование.
Церковный опыт я приобрёл. Спору тут нет. Разный опыт. Благодаря ему, мне было, что и с чем сравнивать. Если Московская патриархия грешила отступничеством от Бога, активным участием в строительстве царства антихриста, многочисленными ересями и нарушениями канонов, то представители Зарубежной Церкви в России грешили другим. Они грешили, как люди. Кумиров и выдающихся авторитетов среди них не имелось, а грехи человеческие, да ещё и раскаянные – Богом простительны. Правда, хула на Святого Духа и покаяния в грехах до меня не доходили. Но они и не для моих ушей.
Дома воспаление лёгких я перенёс на ходу. Особо разлёживаться на хуторе некогда. Земля и скотина немощных и больных не любят. Больной, не больной, а работать всё равно надо. Кто же эту работу сделает, если не ты? Болей, а, хотя бы и через силу, работай. А будешь лежать, так ещё сильней заболеешь. С таким понятием и уложением живут наши люди веками.
Я тоже, не другой. А из того же самого теста. Месяца через два болезнь отступила. Но на её место пришла другая беда. На хуторах стали проводить газ. Дошла очередь и до нашей веси. Засучив рукава, пришлось помогать хуторянам. Работы прибавилось на целый порядок. Не рассчитав свои силы, я надорвался и попал в больницу. В животе жутко болит. Есть ничего не могу. Врачи вначале определили аппендикулярный инфильтрат. Потом этот диагноз не подтвердился. Походили они, походили вокруг меня, развели руки в стороны, да так и оставили на волю Божью.
Третью седмицу с постели уже не встаю. Ничего не ем. И есть-то, не хочется. Лежу. Гляжу в потолок. Помираю. Запахи земные стали противны. От скорой встречи с Богом на душе всё теплее и радостней. Скорей бы, уж. А помирать-то, оказывается, хорошо. И совсем не страшно ничуть. А люди, почему-то, всё смерти боятся. Знали бы, как это просто. Помирать-то помру, да только вот помилует ли меня Господь? Эта мысль, как болотная пиявка прицепилась ко мне.
Если не помилует Боженька, тогда - страшно!
Стал я молиться ещё больше. В животе огнём всё горит. От боли иногда и на стенку лезу. Боль, ничего, её перетерплю. Временами терпеть её можно. Молитв же ни ночью, ни днём не бросаю. Особенно тяжело по ночам. Днём, вроде бы, легче. А молюсь простенько. В душе кипит Иисусова молитва, Отче наш, символ веры, Богородичные молитвы…
Молюсь и своими словами.
Сплю урывками. И помалу. На какой-то день, я попросил медицинскую сестру уколоть двойную дозу обезболивающего лекарства. Попросил просто так, скорее даже не от мучительной боли, а безысходности. Она уколола. И через минуту в моём животе кишки задёргались и зашевелились, будто вставая на свои прежние места. Захотелось внутри почесать. Только, как там почешешь? Шевеление длилось не долго. К радости, боль отпустило. И я поднялся с кровати. Дальше, упираясь руками о стенку, сделал несколько неуклюжих шагов. Ноги держали, однако долго стоять я не мог. Духу и сил не хватало. К вечеру лишь расходился. И даже немного поел. От нежданной удачи так расхрабрился, что вышел потом в коридор. Лучше бы я этого не делал. В коридоре всё закружилось. Потолок, пол, стены. Всё слилось в одну точку. Чтобы не упасть, сполз я по стенке на пол. Минут через пять перестало кружиться, и я возвратился в палату.
Из больницы меня не выписывали. Сам ушёл. Поблагодарил дежурного терапевта, медицинских сестёр. Поднялся и ушёл. Никто меня за руку не держал и не отговаривал. Хотя на полное выздоровление и потребовалось ещё очень много времени.
Когда приехал в Амосовку, отец Валерий задал мне странный вопрос.
- Ты, что-нибудь, знаешь о наших церковных делах?
- Ничего не знаю. А, что я должен знать?
И тут он поведал о надвигающемся расколе в РПЦЗ и о той трусливой позиции, которую заняли российские преосвященные, включая и Лазаря.
- Это хорошо, что ты заболел и ничего не знаешь. Господь увёл тебя от неправильного поступка. Останься ты у Лазаря, ещё неизвестно, как бы оно повернулось.
- И что же мне теперь делать?
- Ты знаешь, я сейчас даже не знаю, кто тебя может постричь. Люди меняются не по дням, а по часам. Вчерашние друзья и сомолитвенники уходят из Церкви и становятся злейшими врагами. Прямо наваждение какое-то. А, что тебе делать? Да, ничего. Поезжай к себе на хутор. И помаленьку крестьянствуй. А чтобы не так скучно было, я тебя благословляю читать Псалтирь по покойникам.
Дивны дела Твои, Господи!
А воля человеческая так капризна и глупа.
Церковные новости, от отца Валерия, не столько опечалили и озадачили, сколько удивили. Хотя они и висели в воздухе, и предвиделись [266], но не так же скоро. А вот его благословение читать Псалтирь по покойникам, меня ничуть не удивило. Дело в том, что, давеча я покаялся ему в организации похорон новопреставленной бабушки из соседнего хутора.
Её родственники патриархийных священников отпевать не нашли [267] и один из них обратился ко мне за помощью, хоть, что-нибудь по ней почитать. На мои отговорки о том, что я не священник и что не могу отпевать, он не реагировал. «Не хоронить же её без молитвы, как какое-то безсловесное животное» - всё приговаривал тот человек. Усопшая бабушка не принадлежала к Зарубежной Церкви. И по христианской ревности мне казалось греховным молиться за упокоение её души прилюдно. С другой же стороны, я её очень хорошо знал. Всю жизнь она прожила тихой и незаметной жизнью на краю своего хутора. В патриархийный храм почти не ходила. В Бога веровала и молилась, всё больше, дома, келейно. Оставлять усопшую старушку совсем без молитвы мне показалось ещё более тяжким грехом.
Потому и согласился.
Отец Валерий Рожнов в том греха не нашёл. Мой поступок одобрил. И, как видите, благословил поступать так и дальше.
В сельской местности дополнительной рекламы не требуется. Это вам не город. Стоит только что-то совершить, хорошее там или плохое – без разницы и молва тут же разнесёт новость по весям. То же самое произошло и со мной. Похороны знакомой бабушки и известие, что я теперь могу читать Псалтирь по покойникам, в мгновение ока разнеслись по нашему околотку. Новость-то, новостью, однако и смерть себя ожидать не заставляла. Она так исправно и так зловеще выкашивала хуторян, что впору оставалось плакать, да ужасаться. Погосты росли, как на дрожжах. И без чтения Псалтири я подолгу не засиживался.
По данному Богу обету, за свои труды, я денег не брал. Считал, что, если и будет на то Божья воля, то уж лучше получить награду от Него, нежели от людей. Не брал ничего, даже продуктов. Вычитывал все двадцать кафизм. Подрясник же, чётки и скуфейка вносили молитвенно-монашескую строгость и в глазах хуторян, они приравнивали простого чтеца, едва ли не к священнику. Всё это, в совокупности, вскоре сделало меня настолько узнаваемым и популярным, что приглашение на чтение Псалтири, для многих моих земляков стало считаться вопросом престижа. Я никому из них не отказывал. Но иногда ко мне обращались по двое. И кого-то приходилось отсылать к чтецам-бабушкам. Люди упрямились и хотели видеть только меня одного. Мне это очень не нравилось. Но что-то менять было поздно.
Чем чаще я молился, тем шире становилась известность, а следом за ней расширялась и территория. Очень скоро она увеличилась до района, а чуть позднее и области. Свет клином на мне не сошёлся. Это понятно. И, конечно же, я не горел желанием далеко удаляться от дома. Когда такое случалось, то всякий раз приходилось обращаться к соседям. Просить их подоить и накормить корову, затем выгнать её на луг, прибрать молоко и т. д. А у них и без того, своих дел по горло.
Приезжали за мной в разное время. Хуже, когда вызывали к покойнику поздно вечером или же ночью. Выбирать время не приходилось. Бывало, за день так наработаешься и так устанешь, что и месту спокойному рад. Сам весь грязный и потный. Ещё и помыться, как следует, не успеешь. А люди в одеянии чёрном уже стучат в твою дверь. Деваться некуда. Покойник ждать долго не будет. На скорую руку умываешься, одеваешься и скрепя душу и сердце, едешь в дальнюю дорогу.
Приедешь, а от сильной усталости, тебе совсем не до молитвы. Молишься через силу. И молитва не идёт, и слово к Богу не проходит. Хочется не молиться, а спать. И никому до тебя нет никакого дела. Люди хлопочут о завтрашнем дне – похоронах и поминках.
Сам себя пересиливаешь.
И всё читаешь, читаешь. После десятой кафизма наступает такой момент, когда количество начинает переходить в качество. Переходить не обрывно и сразу, а постепенно. Слово к слову. Крупица духа к крупице. И вот ты уже не просто читаешь. А молишься. Кафизмы плывут одна за другой и плавно уплывают к Всемогущему Богу. И ты уже сожалеешь, что они так скоро кончаются и что их так «мало» в Псалтири.
В любое время года и суток, в любую погоду ездил я навстречу к человеческому горю. Привезти-то тебя привезут, а вот отвезти назад, иной раз и не получалось. Да и кто тебя повезёт в три или четыре часа ночи? Слава Богу, хоть, дорога известная. Часто добирался до дома пешком. Ходил и по семь, и по десять ночных километров. Иду по дороге. Все собаки почему-то молчат. Небо звёздное. Ни мороза, ни ветра не чувствую. Смотрю на небо, а в душе и на сердце всё звучит и звучит молитва. Она не утихает. И дома, уже на постели, когда и засну, кафизмы всё плывут и плывут. Будто знаю весь Псалтирь наизусть.
Особой веры я у своих земляков не заметил. Не заметил и теплохладности. Дай Бог, чтобы я ошибался. Как мне показалось, церковные требы крестьяне принимали по давней традиции, а не от сердца - по намоленности или какой-то духовности. Принимали их во избежание худой молвы и соседского осуждения. Суд Божий для них, если и существовал, то весьма призрачно и весьма отдалённо. Советская власть постаралась выветрить и истощить русский православный корень. Постаралась вывести его до основания. И во многом, она преуспела. И многое, ей удалось. Хотя и далеко не всё.
Несмотря на долгое безбожие и упорное богоборство, иконочки земляки мои не повыбросили и не уничтожили. Святость от власти припрятали. А кто оказался чуточку понабожнее и посмелее, тот и со святых углов их не поснимал. Оставил святость на всякий случай. И такие иконочки, что любо-дорого посмотреть. Залюбуешься. Намоленные и не нынешнего, тяп-ляпного, а старинного и боготрепетного письма. Осталось у людей и показное уважение к духовному сану.
Молиться приходилось всё больше одному. Лишь в двух случаях, из более сотни, мы молились сообща. Потому их и запомнил.
Не забывал я и отца Валерия Рожнова.
Временами наезжал в Амосовку. Исповедывался и причащался. Рассказывал ему о своих крестьянских и молитвенных делах, и в ответ узнавал церковные новости. Они не радовали, а печаловали. Положение в Церкви с каждым днём ухудшалось. И отец Валерий делал всё от него зависящее, чтобы, хоть как-то, это положение выправить. На одном месте он не сидел. Постоянно встречался со священниками, участвовал в различных совещаниях и не только по России.
Однажды мне даже довелось провожать его до Москвы. Моя дорога там поворачивалась в обратную сторону, а ему предстояло лететь во Францию, на рабочее свидание к отцу Вениамину Жукову. Как раз начиналось строительство РПЦЗ (В). И митрофорный протоиерей Вениамин Жуков координировал это строительство. Не знаю, один он координировал или же ещё с кем-то. Помощники у него находились. И одним из главных помощников по России, как раз и оказался мой друг.
Поездка случилась зимой.
У французского посольства выстроилась длинная очередь. В очереди это те, кто за визами. А провожающие, страховые агенты и просто зеваки сбились в большую толпу. Мороз на улице градусов в двадцать. Пар изо рта валит, как от путиловского паровоза. Без движения холодно. Тело мёрзнет и особенно ноги. Многие на месте пританцовывают.
«Чечёточники».
В голове крутятся греховные мысли - «Не сидится им дома. А в посольском здании, небось-то, тепло. Жаль, что нас туда не пускают. Как же, пустят тебя с таким красным рылом. Туда нельзя. Там калашный ряд. Иностранная территория. Запретная зона, значитца. И она не для нас. Посольское здание для особо культурных и белых людей. Ничего. Мы к морозам привычные, как-нибудь и пешком постоим. Лишь бы у отца Валерия всё сладилось и получилось. Вызов у него на руках капитальный. Как и положено. Со всеми печатями и штампами. Сам лицезрел. Поэтому особых препятствий посольство чинить не должно.
Помоги ему Христос!
Надо же. Сидели себе, сидели по городам и весям. И вдруг, на тебе, во Францию всем захотелось. Эка, сколько народищу прётся. И зачем? Терпели же при Совдепии. Посольские пороги не обивали. По заграницам не ездили. И ничего. Кто живой остался, вытерпел и выжил без заграницы. Так-то оно так. И всё же некрасивая получается картина у посольства.
Хочется крикнуть во всё горло – «люди мы! Не скоты!».
Я не выдержал. Нет. Кричать, конечно, не стал. Просто взял и пошёл. И меня почему-то пропустили. Даже паспорта никто не спросил. Увидев своего приятеля, прилепившегося к посольской батареи отопления, отец Валерий удивлённо спросил.
- Как ты сюда попал?
- Как, как? Замёрз на улице, вот и зашёл погреться во Францию.
- И тебя пропустили?
- Как видишь.
Отец Валерий недоумённо покачал своей головой, но сказать ничего не сказал. Как потом оказалось, не зря мы с ним мёрзли на московском морозе. Не только в посольскую, но и в самую настоящую Францию, отца Валерия легко пропустили. Пробыл он там недолго. Однако же, возвратился с множеством приятных впечатлений и уже в высоком протоиерейском сане.
Понравился он отцу Вениамину.
Тут ничего не скажешь [268].
Курская и Белгородская области, это практически одно целое образование. При царе-батюшке наш край, поочерёдно, именовался то Белгородской, то Курской губернией. Советы губернии упразднили. И на карте появилась только одна Курская область. При Хрущёве последовало нынешнее (последнее!) административное разделение. Как бы там ни было, и как бы не экспериментировали сильные мира сего - земли наши едины и неразделимы. Пожалуй, как и всё остальное тоже.
Амосовские прихожане, люди простые. В основном, это вчерашние колхозники. Разницы между моими хуторянами и амосовскими прихожанами, нет никакой. Те же, открытые лица и та же, русская добрая душа. Часто бывать в Амосовке у меня не получалось. Если три или четыре раза в год я исповедывался и причащался, то считал, что это уже хорошо. Хотелось бы ездить в Амосовку чаще, но не выходило. И дорога туда неудобная. И ездить, поэтому лень. Да и своих крестьянских дел и забот невпроворот.
И если бы только своих!
Жилось мне по-разному. Случались перебои с деньгами и хлебом. И разные складывались отношения с отцом, братом и хуторянами. Русскому человеку без хлеба жить непривычно. Когда становилось особенно тяжело, помогал Господь Бог. Бывало, встану утром, а на крыльце, глядишь, кто-то из добрых людей оставил продукты. Или пойду на речку, помолюсь и попрошу у Бога рыбку, и обязательно её поймаю. А иной раз, поймаю столько, что ещё и с отцом, и с соседями поделюсь. Это когда дома, хоть шаром покати. А когда же кушать есть что, тогда проси, не проси, а рыбка так и не поймается.
В одну из зим, приехали ко мне знакомые фермеры. Приехали не просто так, не в гости и не чаи гонять, а по делу. У них освободилось одно фермерское место. Людей подходящих на него не оказалось. Вот они и стали просить меня это место занять. Долго просили и всё уговаривали согласиться. Прямо жалко мне стало людей. Я их внимательно выслушал, а после и говорю.
- Поработать-то, братцы, оно, конечно же, можно. Только, вот, не умею я взятки давать. Без них же вы не живёте. И как же мне быть?
- Мы за тебя будем давать. Ты только работай, - ответили фермеры хором.
- Один раз, может и дадите. Это верно. Но потом, ведь, самому придётся. А я не могу.
Пришлось отказаться от фермерской затеи. Так и уехали они ни с чем.
Родненькие мои!
Не случайно я отказался от фермерства. В нынешней России честному человеку работать на земле [269] невозможно. Об этом вы и не хуже меня знаете. Коррупция, повсеместное взяточничество, вкупе с чиновничьим произволом, достигли невиданной высоты. И вся эта мерзость начинается не где-нибудь в Китае и не откуда-нибудь со стороны, а с самого, что ни на есть московского Кремля. И дальше уже, будто паучьей паутиной, она охватывает всю страну. На эту тему написано и показано множество самых убедительных кадров и слов, и на этих чистых страницах у меня нет никакого желания о них повторяться.
Однако об одном случае, всё же поведаю. Ничего особенного он собой не представляет, хотя и добавляет лишний мазок на тёмное жизненное полотно.
Будучи ещё у отца Григория, довелось мне, как-то, побывать и в Москве. После монастырского однообразия, столица запомнилась своим шумом, рекламным светом и сырой, промозглой погодой. В Москву мы прибыли по делу. Отец Григорий на старооскольском рынке содержал церковный ларёк. Он-то и благословил меня и ещё одного брата во Христе, съездить в Москву за церковным товаром. Помощь в приобретении церковной утвари: свечей, крестиков, литературы, икон, нам оказал один случайный знакомый отца Григория. Как потом выяснилось – молодой и очень сведущий человек.
Пока мы ездили с ним по Москве и ближайшему Подмосковью, он не молчал. А о таком нам рассказал и поведал, о чём раньше и слышать никогда не приходилось. Имя этого человека я уже позабыл. А вот рассказ его помню. Работал он в посреднической фирме, занимавшейся решением проблем регионов в оплате за уже полученные энергоносители. Такие вопросы фирма решала легко и просто. Имея выходы на первых руководителей регионов-поставщиков, она договаривалась с ними о бартере. Деньгами регион-получатель расплатиться быстро не мог, а металлом, цементом или ещё чем, расплатиться мог запросто. Фирма совершала выгодную трёхстороннюю сделку, «грея на ней руки» и получая свои барыши.
Вот вам весь и бизнес.
Наш рассказчик и случайный благодетель, служил в этой фирме в должности исполнительного директора. И в своём монологе он ничего не скрывал. Хорошо было видно, что на душе у него уже давно наболело и это наболевшее, как созревший фурункул, требовало выхода. А тут такой случай подвернулся, в лице двух внимательных, да ещё и провинциальных слушателей.
- Сам-то я тоже, не из московских бояр буду, - удивил он нас неожиданным началом. – Москвичи – народец гнилой. Царь-то наш батюшка - Иван Грозный - не зря от них бегал, как от прокажённых или чумных. Двенадцатый год я здесь проживаю и всё никак не могу попривыкнуть. А вот мой родной дядюшка, тот в Москве уже давно ошивается. Даже в муровские генералы выбился. Он-то и присоветовал мне поступать в Московскую высшую школу милиции. По блатному, в «вышку» значит. Послушался я сдуру его. Взял, да и поступил. А когда закончил, понятное дело, стал служить опером в одном из московских отделов милиции. Служу. И постепенно привыкаю. Взяток брать, не беру. Пытаюсь жить по честному, на одну зарплату. И если бы не мой дядя, глядишь, оно бы так и прокатило. «Дураков-то» по миру хватает. Только у меня с этим «юродством» ничего не вышло. Все ведь знают, какая дядюшка шишка. Начали на меня коллеги косо посматривать. А заодно, опасаться и думать, как бы я их не заложил. А того невдомёк. Кому и куда закладывать? Когда вокруг все такие.
От рядового и до министра.
Живётся московским ментам не так уж и плохо, как кажется или может показаться со стороны. Все, худо-бедно, пристроились. На иномарках многие ездят. «Доить-то», ещё есть кого. Оно и ежу понятно, что на одну ментовскую зарплату не то, что иномарку, а и ржавого «запорожца» не купишь. Дядя на меня дюже гневался. А мне его гнев нипочём. Прямо, как с гуся вода. Так, белой вороной, до майора и дослужился. На своём участке каждому оперу всё известно. Известно и мне. Чем я хуже других? Кто и какой бизнесмен. На чём поднялся. Кого и как опустил. И кто, и кого крышует [270 ] – тоже известно.
Надумал я жениться, а у самого за душой, кроме койки в общежитии, да старой портупеи в тумбочке и нет ничего. Что прикажете честному менту делать? Воровать - не по мне, брать взятки тоже - негоже. Неужто, надо увольняться из органов? А иначе, как дальше прожить? Вот тут-то сто раз подумаешь и сто раз отмеряешь. Одному-то ещё ничего. Одному, оно проще. А вдвоём уже и не то. А если ещё и ребёнок появится? А он обязательно появится. Если не появится, то, зачем тогда жить? Имелась у меня на примете одна, более-менее, подходящая фирма. Прежде чем уволиться, заглянул я к ним полюбопытствовать и спросить насчёт работы.
- Мы тебя знаем – любезно ответили мне. – И на работу возьмём. Возьмём. Но только с одним условием. Если сделаешь нам муровскую крышу.
- Крышу, так крышу. Поговорил я с дядей. Он просветлел. Как же, племянник прозрел и одумался. Дядя враз согласился. С тех пор, вот и работаю в этой фирме. С неба звёзд не хватаю. Но того, что перепадает, на жизнь нам с супругой и ребёнком хватает. Я не жалуюсь. Купил квартиру, вот эту машину. Раз в году могу позволить себе вместе с семьёй отдохнуть на приличном курорте. Для нормальной жизни, сказанного вполне достаточно. И мне ещё здорово повезло. Другим повезло меньше. Всё, братцы мои, давным-давно куплено, перекуплено и продано, перепродано. Всё, что приносит доход – имеет своего хозяина. Будущим никто не живёт. Воруют сегодня и сейчас. Если при советах, что-то там и планировалось, то теперь планируется только одно – как бы что-то украсть и как бы его отослать за бугор. Нефть, газ, руду. Неважно что. Лишь бы оно имело там цену. Жить здесь они не хотят. И не будут. Вы знаете, о ком я говорю. Наш народ перемрёт. Останутся только погосты, да рабы. Картина бесперспективная. Но к тому уже катится.
И катится быстро.
- И что же нам делать? – спросил мой брат во Христе обречённо.
- Спросите у Чернышевского. Он, наверное, знает, как лучше и как дальше жить. А если говорить и думать серьёзно, то я вижу только один выход – в купле и продаже земли. Другого выхода я не вижу. Без купли и продажи земли, экономику нам не поднять.
- И это тоже не выход, - вставил и я своё слово. - Землю раскупят люди с деньгами. А у кого они есть? Понятное дело, у кого. Молиться надо. Людей воцерковлять. Церковь строить и поднимать. Без Божьего благословения у нас ничего не получится.
- Я не спорю. Может оно и так, - после длинной паузы, согласился бывший майор милиции, пробуя завершить свои откровения.
Однако его попытку «стёр» начисто вопрос брата моего во Христе.
- Интересно, а знают ли в Кремле, что творится за их кремлёвскими стенами? – спросил он скорее себя, чем нашего водителя-благодетеля.
Не знай я достаточно хорошо своего брата, мог бы и удивиться столь детской наивности. Вопрос он задал неспроста, не случайно.
Известное же мне - неизвестно водителю.
- Кремль весь этот бардак и контролирует, - спокойно ответил, на наивный свиду вопрос, бывший московский опер. – И над Кремлём есть власть, но та власть не в России. Мир криминальный и мир правящий – сегодня одно и тоже. Допускаю, что так было всегда. Во все времена. Но в те времена я не жил. Поэтому ничего конкретного о них сказать не могу. А вот о сегодняшнем дне скажу, как сказал. И скажу со всей, перед Богом, ответственностью. Я - бывший опер и знаю, о чём говорю.
Все воры в законе работают на власть и только потом на себя, а власть работает на себя и только потом на воров в законе. Власть контролирует и регулирует много чего. В том числе и воровскую численность. Она над всеми. И за всё в ответе. Только, обратно же, спросить с неё некому здесь. Отчитывается она за бугром. То есть, кагалу. Темпы нашего умертвления кагал сегодня устраивают. Иначе верхи бы уже давно поменяли, - наш водитель на секунду умолк и дальше стал говорить с налётом блатного жаргона. - Народу втирают очки. Кормят обещаниями и забугорным дерьмом. Только устоявшийся идиот может столько и такое терпеть. Исходя из сказанного, теперь посудите сами, кто мы такие есть на самом деле? Русские ли? Не хочется быть законченными идиотами, но другого подходящего слова я не нахожу.
И мне оно тоже подходит.
Наш извозчик на время замолк. Но молчание его длилось недолго. Темы для продолжения разговора лежали на самом виду, на поверхности. И лезть за ними в глубокий карман было не надо. Не ленись и только лишь протяни свою руку.
О многом мы тогда переговорили.
Помимо весьма глубоких знаний социально-экономических аспектов развития (вернее, упадка) современной России и знаний криминально-специфических, человек этот поразил меня ещё широтой и глубиной познания православия. Казалось бы, какое ему дело до Веры? Не каждый священник понимал то, что понимал наш случайный знакомый - исполнительный директор посреднической фирмы. Он прекрасно разбирался в отступлениях Московской патриархии.
И церковью её совсем не считал.
О Зарубежной Церкви, тоже, отзывался с видимым скепсисом, хотя о Ней, так уж рьяно не спорил. Веяло от него необыкновенно сильным русским духом и упрямой мужицкой уверенностью. Чувствовалась, а временами даже проглядывалась, его удивительная человеческая цельность и неподдельная, подкупающая простота. Он ничем перед нами не хвастался. Говорил без всякого пафоса. Говорил просто и вполне доказательно. Может быть, слегка сожалея о своём сегодняшнем полукриминальном бизнесе. Может быть. Я не утверждаю это наверняка. Других жизненных перспектив бывший оперативник не видел, поэтому и говорил так, как бы слегка сожалея и не рассчитывая на скорые перемены к более чистому житию.
Запомнился он.
И заставил крепче задуматься.
После, святая Псалтирь познакомила меня со множеством интересных русских людей. Разных. И похожих и непохожих. А, подчас и людей совсем удивительных. Иногда и по одной только, случайно оброненной фразе угадывался думающий и далеко неординарный человек. Одно сравнение Московской патриархии с обкомом КПСС, чего только стоит. И услышал я его не от простого крестьянина или рабочего человека, а от мэра небольшого белгородского городка. Мэр, сам, в прошлом, бывший обкомовский работник. И уж, он-то знал, с чем Московскую патриархию сравнивать.
Зная о моём прошлом опыте чтения Псалтири по покойникам, люди и до сих пор спрашивают, как Её правильно читать? То есть, как правильно молиться? С чего и как начинать? Зажигать ли свечи и если зажигать, то куда их ставить? И ставить ли их на гроб? И так далее. Вопросов возникает множество. И особенно они интересны тем, кто уже сам читает или же стремится читать эту святую книгу.
Что вам на это сказать, детушки мои!
Каждый человек способен к заупокойной молитве. И не только способен, но и обязан молиться за усопших - за своих родных, за близких и просто знакомых. Однако далеко не каждый человек может спокойно читать Псалтирь при лежащем в гробу покойнике. Это надо знать и понимать. Если вы нормально переносите резкие и неприятные запахи и если вы мало обращаете внимание на посторонние звуки, на окружающие предметы, незнакомый интерьер и лица покойников и вообще, человек вы глубоко сострадательный, пламенно верующий и почти совсем не брезгливый, то есть надежда, что у вас всё или же почти всё получится.
Специально читать Псалтирь по покойникам меня никто не учил. Так уж получилось, что многие мои знакомые священники и сами-то в этом вопросе не ахти как разбирались. Поэтому приходилось больше рассчитывать на свои собственные силы. Самообразование - дело не такое уж сложное. Как говорится, было бы время и желание. И то, и другое у меня находилось. Что-то возьму и прочитаю у святых Отцов. Что-то подходящее найду у толкователей. А иной раз и услышу нечто полезное в разговоре. Так, мало помалу, складывались мои знания, а вместе с ними приобретался и необходимый опыт.
Псалтирь по умершему человеку читается непрерывно - от его последнего вздоха до отпевания – таковы требные правила. В Православной Российской Империи раньше так и читали. Теперь же читают не так, а иначе и по-другому. Много хуже читают. И понятно, почему. Внутренней дисциплины и страха Божьего у людей почти не осталось. Постоянные искушения и сомнения всё время колеблют и терзают грешную русскую душу. Они не дают человеку горячо уверовать и прочно закрепиться вере. С внешней же стороны, многочисленные церковные расколы так ослабили и истощили поместное православное поле, что оно, сплошь и рядом, поросло диким безбожием и богоборчеством.
Поросло изуверскими сектами и откровенными сатанинскими насаждениями.
Как ядовитые паразитные сорняки, они буйно разрослись повсеместно. Да и как им не разрастись, а православному полю, как не ослабиться и не истощиться, когда Хозяина земли русской мы отправили на голгофу. Лишились ума и яко Агнца и вслед за Агнцем, отправили. От благословенной Богом Православной Империи отказались. И еле, еле сегодня живём. Доживаем. Однако греховное прошлое от нас никуда не ушло и не кануло в лету.
Оно всё так же продолжает висеть и довлеть над всем русским народом.
В наше апостасийное время многое к худшему поменялось. Требные правила остались прежними. Их никто не менял и не отменял. А вот само чтение, поменялось. И тому есть много причин. Одна из них – острая нехватка подготовленных чтецов. Поэтому Псалтирь сегодня и читают все, кому придётся, как Бог на душу положит и все, кому не лень.
Много мне довелось повидать разных чтецов, оттого и знаю их чтение.
Людям преклонного и старческого возраста трудно прочитать все двадцать кафизм. Об ошибках при чтении я уже и не говорю. Их столько, что, порой, хоть уши затыкай. Научиться же, читать без ошибок, не так-то и просто. На это надо терпение, время и толковый учитель. Да только, где это взять? Где взять в провинциальной глуши терпение, время и учителя?
Многим ничего и не надо. Читает себе пришлая бабушка. Ну и пусть себе читает. Всё равно ведь читать больше некому.
Перед чтением Псалтири, молитвой - необходима внутренняя душевная подготовка. Сразу настроить себя на молитву у меня не всегда получалось. Но это и не так страшно. Нужный настрой приходил немного позднее. По входе в дом или хату и обычных метаний на образа, я снимал с себя мирскую одежду и облачался в подрясник. Брал в руку чётки. Ставил и затеплял свечки перед иконами на поминальном столике [271]. Свечки деревенские люди не всегда имеют возможность купить. Поэтому я прихватывал их из дома с собой. В конце нехитрых приготовлений, ложил на чистую скатерть или же полотенце Псалтирь. И только уже после этого, немного постояв и сбросив с себя всё наносное, ненужное - начинал потихоньку молиться.
Молиться начинал стоя.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Слава Тебе Боже наш, слава Тебе…
Дальше шла молитва Святому Духу, Трисвятое по Отче наш и после – приидите, поклонимся цареви нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем Христу, цареви нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем Самому Христу цареви и Богу нашему - вычитывал последование по исходе души от тела. Потом снова - приидите, поклонимся цареви нашему Богу… и дальше уже начиналась первая кафизма. После каждой славы вычитывал поминальную молитву: помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде живота вечного, преставльшегося раба Твоего, брата нашего (имярек)… И после вычитывал молитвы, указанные в конце каждой кафизмы.
Кафизмы читал сидя, вставая на славу и на поминальную молитву. Обычно, после пятой, десятой и пятнадцатой кафизмы, я делал небольшие перерывы. В перерывах не сидел сиднем и не молчал, а вёл тихую беседу с сомолитвенниками на церковно-духовную тему. Отвечал на вопросы и выслушал их краткие рассказы. После прочтения всей Псалтири уходил или уезжал домой. Если читать приходилось очень далеко от дома, например, в другом районе, то продолжал читать Псалтирь по второму кругу. И читал до тех пор, пока не появлялась возможность уехать.
Для внутренней молитвы верующему человеку достаточно и одной Псалтири. Не зря же сказано святым Августином учителем: «Пение псалмов души украшает: ангелы на помощь призывает: демоны прогоняет: отженет тьмы: содевает святыню: человеку грешному укрепление ума есть: заглаживает грехи: подобно есть милостыням святым. Прибавляет веру, надежду, любовь: яко солнце просвещает: яко вода очищает: яко огнь опаляет: яко елей умащает: диавола постыдевает: Бога показует: похоти телесныя угашает: и елей милосердия есть, жребий веселия, часть ангелов избранна: свирепство изгоняет: и всякую ярость утишает: и гнев сокрушает: хвала Божия непрестанная есть: подобно есть меду пение псалмов…».
И святой Василий Великий о Псалтири отзывается тако же: «Никия же бо иныя книги тако Бога славят, якоже Псалтирь, душеполезна есть: ово Бога славит со ангелы вкупе, и превозносит, и воспевает велиим гласом, и ангелы подражает: овогда бесы кленет и прогоняет, и велик плачь и язвы творит: за цари и князи, и за весь мир Бога молит. Псалтирию и о себе самом Бога умолиши: больше бо и выше есть всех книг…».
Но не одной только Псалтирью ограничивалось моё духовное чтение. Во все эти годы монашеского искуса, я постоянно прикупал духовную литературу и за короткое время, собрал небольшую библиотечку. Прочитал многие творения святых Отцов Церкви: Ефрема Сирина, Исаака Сирина, Иоанна Лествичника, Иоанна Дамаскина, Иоанна Кронштадтского; святых Божьих святителей: Иоанна Златоустого, Дмитрия Ростовского, Дионисия Ареопагита, Григория Паламы, Василия Великого, Августина Блаженного, Афанасия Великого, Григория Богослова и многих других святых Отцов и учителей Православной Церкви Христовой. Некоторых богословов мне удалось прочитать полностью.
Священное Писание, Жития Святых, Патерики, Псалтирь служили (и до сих пор служат) моими верными друзьями и путеводителями. От прочитанных святых книг черпал я любовь и веру, спасительные знания и энергию жизни. Часто уходил с такой книгой на природу, и там, в молитвенном одиночестве, пытался соединить в одно целое красоту Божьего творения и силу духоносного и святого слова. Иногда такое мне удавалось. И тогда – душа пела, и в ней звучали стихи…
Случалось, заезжали ко мне на хутор знакомые и паломники. Из Брянской, Курской, Луганской, Винницкой, Воронежской областей. Однажды, даже звали в священники. Искушали баптисты, иеговисты, адвентисты и иные сектанты. Развелось их нынче великое множество. Так и шастают они по всей Руси, разнося за собою заразу и всяческое еретичество. От хутора к хутору и от села к селу. Отпора им сегодня никакого нет. Потому и встречаются они теперь где угодно. Смело и безнаказанно разносят свою заразу. Слабые в вере люди колеблются. Часто не выдерживают даже и малого натиска. Спотыкаются, падают и тут же попадают в сектантские объятия. Попасть-то к ним очень легко. А вот выйти, порой - затруднительно. В секте человек быстро меняется. Прямо на глазах сатанеет и становится мало кем вразумляем.
Редкие поездки к отцу Валерию разнообразили мою хуторскую жизнь. В Амосовке я не только исповедовался и причащался, но и узнавал там церковные и иные новости. Отец Валерий не жадничал и охотно ими делился. Он с увлечением рассказывал о становлении и росте РПЦЗ (В), о митрополите Виталии, о новых епископских хиротониях, об уходе и приходе священников. Делился батюшка и редкими новостями о наших бывших с ним однокурсниках по институту. Жизнь у многих из них сложилась трудная. Специалисты сельского хозяйства, в одночасье, стали никому не нужны. Работы на селе по специальности нет. Вот и попробуй тут, проживи и прокорми семью. Кое-кто начал даже крестьянствовать и жить своим натуральным хозяйством. Развёл птицу, скотинку. Припахал чуть больше земли и плюнул на негожую сельскохозяйственную политику и на жидовское государство. Иные подались на заработки в Москву, Подмосковье.
Кто-то из наших студенческих друзей уже ушёл из жизни или же пропал без вести. И таких уже выходило не мало.
Жизнь и смерть брали своё.
Уезжал я от отца Валерия не с пустыми руками. На дорожку он всегда меня щедро снабжал своими напутствиями и целой кипой текущей церковной литературы. Дома я её читал, перечитывал и в очередной амосовский приезд, менял на новую партию.
Дни шли за днями, недели за неделями. Время текло незаметно и быстро. Не заметил, как протекли эти годы. Они мне казались трудными. Ещё бы им не казаться! Тяжёлый крестьянский труд, почти принудительная молитва и полное вокруг одиночество. Кому угодно такая жизнь покажется в тягость. Тогда я ещё особо не задумывался над жизненной аксиомой, что чем ни труднее в этом миру, тем спасительнее. Мне хотелось поменять сложившийся жизненный уклад. Хотелось больше молиться, жить рядом с членами Церкви и иметь много времени на чтение и если на то будет Богу угодно, литературное творчество.
Тогда я ещё не ведал и даже не догадывался, что впереди меня ожидают, куда более тяжкие труды, великие разочарования и не менее великие потрясения.
О, время!
Как повернуть тебя вспять?
ЭПИЛОГ
Все труды человека - для рта его, а душа его не насыщается. Какое же преимущество мудрого перед глупым, какое - бедняка, умеющего ходить перед живущими? Лучше видеть глазами, нежели бродить душею. И это - также суета и томление духа!
(Книга Екклесиаста или Проповедника. 6. 7-9).
- Побудешь у епископа Виктора послушником. Он тебя пострижёт в мантию и рукоположит в дьякона. Ты уже к этому давно готов. А года через три, Бог даст, рукоположит тебя и во пресвитера, - такими словами начал моё напутствие перед дальней дорогой отец Валерий Рожнов.
Суховей из Казацкой степи принёс очередную порцию полынного запаха и давно сжатого поля. В небесной синеве высоко закружились два коршуна. Желание куда-то отбывать на долгое время, а то и навсегда, у меня почему-то пропало. Хотелось просто сидеть на бережку, смотреть на пруд и на синее небо, и никуда не уезжать. Наездился я и налетался по белому свету уже досыта.
Интересно и непредсказуемо, всё же, Божье созданье!
Четыре последних года так рьяно рвался в монахи, а как настала пора им становиться, пыл рвения, вдруг, поугас. В голове промелькнули мирские сюжеты. И захотелось пожить ещё своим прошлым, а от будущего наотрез отказаться. Однако духовная слабость длилась не долго. Слова отца Валерия вернули меня к предстоящим реалиям и переменам.
- На Кубань поедешь вместе с отцом диаконом Иоанном Савченко, на его машине. Он со своей матушкой Наталией сегодня у меня ночевал. Привозил от владыки Виктора иконостас для нашего нового храма. Теперь они в Курске, но уже скоро приедут. С ними и отправишься на Кубань. Смотри только, не забывай, о чём мы здесь с тобой говорили. Это очень важно. И прошу тебя, научись работать на компьютере и почаще пиши. Если, что срочное, то и звони. Телефон ты мой знаешь.
+ + +
Отец диакон мне не понравился [272]. И что здесь сказать? Бывает в жизни так, что первая неприязнь к человеку возникает, как бы, сама по себе. Возникает сразу и будто бы на пустом месте. Объяснить её можно. Да, вот только есть ли смысл объяснять? Вспомните. Вы ведь и сами не раз попадали в точно такую же ситуацию. Когда новый человек вам не нравится и всё тут. И хоть тресни, но ничего поделать с этим нельзя.
Отец диакон Иоанн [273] своим обличьем и поведением мне очень здорово напоминал отца Фёдора из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова. В нём кипела точно такая же шальная энергия. Бурлила точно такая же мало духовная и мирская суета. Вкупе с природной хохлацкой хитростью, и никчменной показушной простотой, она отбивала всякую охоту длительного общения с этим рыжебородым и уже немолодым человеком.
Материя этого мира отца диакона подавляла и преобладала над духом. Похоже, у него она преобладала над всем. Помидорчики, огурчики, кубанские яблочки, рыбка, сало и всё это с подобострастным угодничеством и только для нужных и известных людей.
Какие-то хозяйственные извечные хлопоты, увёртки, ужимки и с поддёвочкой полупошлые разговоры. Постоянные намёки на прочные связи с известными или сильными мира сего. Себялюбие, хвастовство и никчменная для себя похвальба. И всё это на фоне ничем не прикрытой гордыни, полудикой дремучести и плохой информированности.
Станет ли кто из совестливых людей иметь дело с таким человеком или, скажем, дружить? Навряд ли. Разве, что очень похожий на него человек. И не за просто так, а ради какой-нибудь выгоды.
Отец диакон Иоанн не понимал, не хотел, а может, и не мог понять, что он сам и есть причина всех своих неурядиц, людского отчуждения, переживаний и душевных неудач. До него почему-то не доходило, что своим собственным поведением и больше ничем, он и настраивает против себя окружающих людей. Он хорошо чувствовал их плохое к себе отношение. Чувствовать-то чувствовал и всегда возмущался и обижался на него, но никак не мог понять, отчего оно и почему?
Широкое же и мясистое лицо отца диакона Иоанна, с колючими и хитрющими глазками, как и всё остальное обличие, почти в точности копировало литературный портрет пресловутого отца Фёдора из известного художественного произведения.
С этим человеком и его женой – матушкой Наталией, я и отбыл из деревни Амосовка на Кубань. Путь предстоял нам не такой и короткий.
Мы проехали Белгород. Миновали удачно границу и Харьков. От Харькова повернули в сторону Ростовской области. Дальше дорога наша пролегла через Харьковскую, Луганскую и Донецкую области. В России вид ещё ничего. А по Белгородской области, так и вообще, вид очень приятный. За Харьковом же картина резко поменяла свои цвета на грустный и серый.
Полупустая трасса. По обе стороны от неё - запустевшие, бедные поля. И у трассы, напротив своих деревень, стоят плохо одетые люди с продажными вениками и ещё чем-то. Такое впечатление, будто советская власть отсюда давно ушла, а на её место так никто и не сподобился и не пришёл. Дальше пошли угольные терриконы и опустевшие шахтёрские посёлки и городки.
Картина посерела и постарела так, что уж дальше и некуда. Смотреть на неё без грусти и без сердечной печали невозможно. На границах творится грабёж и иное беззаконие. Как с российской, так и с украинской стороны. Разницы нет. Объяснение одно - всем жить хочется. Хочется жить богато и хорошо. Люди ещё не знают, что если оно и богато, то это далеко не всегда хорошо.
Чем ближе к югу, тем становится теплее. С Божьей помощью, мы проехали восточные области Украины, проехали через Ростовскую область и поздно ночью въехали на Кубань. За первыми попавшимися посадками и кое-как, в машине переночевали, немного перекусили, а потом уже тронулись дальше. Куда ни кинь взор, вокруг широкие и равнинные поля. Глаз радуется. На полях убирают на зерно кукурузу, подсолнечник и, кажется, сахарную свёклу. Земля сероватая, но на ощупь и свиду жирная, а, стало быть, плодородная. Это хорошо видно и по вымахавшей к небу кукурузе и по толстым стеблям подсолнечника.
Дорога по Кубани хорошая. Начальственная и показательная. Машина катится без подскоков и быстро. Миновали город Тимошевск. Проехали пару, тройку станиц. А вот и речка Протока – приток знаменитой Кубани. Речка довольно широкая и недавно вполне судоходная. Въезжаем на длинный мост. А за ним уже тянется малоэтажный город. Славянск-на-Кубани. Всё вокруг ровно. И с моста город видно, как на ладони. В воздухе стоит изнуряющая духота. От воды резко тянет болотной гнилью, а от дороги пахнет жжёной резиной и раскалённым асфальтом. Ещё с десяток долгих минут. И…
Слава Богу!
Приехали.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ МОНАШЕСКИЙ КРЕСТ
ГЛАВА ПЕРВАЯ. Первые впечатления
Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву.
(Книга Екклесиаста или Проповедника. 9. 4).
Дренажные канавы по всему Славянску-на-Кубани отличают этот город от всех мною видимых. Иные канавы не высыхают ни весной, ни летом и являются инкубационным прибежищем для всех окрестных лягушек. По весне они устраивают такие «концерты», что не заснёшь [274].
Машина Славянского клирика остановилась прямо напротив бетонно-блочного забора, почти вплотную с одной из таких канав. Лягушек я в ней не увидел.
Дренажная канава оказалось сухой.
За забором виднеется небольшое церковное здание. Оно выстроено из белого силикатного кирпича и сверху покрыто посеревшим от солнца шифером. Сам храмик довольно умело выложен на высоком бетонном фундаменте. Выложен в самую, что ни на есть, притирку с капитальным и дугообразным крыльцом. По неоштукатуренному фундаменту, кучкам ещё неубранного мусора и на скорую руку сложенному строительному материалу, видно, что храм построен совсем недавно. Скорее всего, в этом, крайний срок, в прошлом году. Двор перед храмом ухоженный. И он ровно уложен нынче модными плитками. Но уложен не полностью. С левой стороны храма и чуть дальше, ближе к зеленеющим деревьям, просматриваются большие земляные пустоты. Рядом с пустотами, прямо у забора, лежат начатая горка песка и мелко битого щебня.
В воздухе колышется невыносимая жара. Ветерка нет и в помине. И не подумаешь, что уже конец сентября. У нас такой жаркой и душной погоды не застанешь и летом. Одним лишь воробьям здесь, похоже, раздольно. Им духота нипочём. Порхают себе с деревьев под крышу и из-под крыши к деревьям. Неужто ещё кормят птенцов? Жару я не люблю. И очень тяжело её переношу. Да и равнинный пейзаж мне тоже не нравится. Глазу некуда упереться. Но теперь уже ничего не поделаешь. Менять что-то поздно. Как ни крути и нравится там или не нравится, но здесь и предстоит мне спасаться.
Отец диакон провожает меня за храм, к длинному двухэтажному строению. Сложенное из местного красновато-серого кирпича, выглядит оно не так солидно и основательно, как недавно построенный храм. Внутри строения чуточку посвежей и прохладней чем на улице. Едва заметный сквознячок отгоняет назойливых мух и слегка освежает лицо. И за то, слава Богу! Я поставил свою походную сумку подальше от порога и шагнул за марлевые занавески вслед за отцом диаконом. Открывшаяся моему взору комнатёнка походит на трапезную. Вижу, как за длинным самодельным столом одиноко восседает маленький и очень худой человек с большой панагией на узкой груди, и тут же рядом возле него крутится пожилая повариха. Больше в трапезной из людей ни души. Попали мы, кажется, прямо с корабля и на бал, то есть с дороги на завтрак.
О! Отец диакон Иоанн прибыл! С прибытием тебя, отец диакон! – громко и как-то, уж явно фальшиво звучит голос маленького архиерея с большой панагией [275].
- Владыка, благослови! – отец диакон складывает крестообразно ладони и подходит под архиерейское благословение.
Следующая очередь моя. Я подхожу немного поближе. Низко кланяюсь и тоже прошу благословения. Владыка Виктор благословляет, но руку почему-то лобызать не даёт. Вместо лобзания он ложит её на мою потную голову. До этого он точно также благословил и отца диакона. На странном моменте я не зацикливаюсь. Продолжаю внимательно наблюдать за архиереем и осматриваться.
Диакон Иоанн от трапезы отказался. После короткого отчёта о поездке, он вышел из трапезной. А я остался с владыкой Виктором и поварихой Параскевой. С дороги ощутимо поламывают кости и очень хочется спать. Но после стакана крепкого чая усталость моя утихает. И я начинаю более внимательно прислушиваться к словам владыки Виктора.
Владыка Виктор не замечает, а если и замечает, то не придаёт никакого значения моей дорожной усталости. Сам он полон сил и энергии. Его словесная энергия требует выхода. И епископ с большой охотой и мальчишеским задором рассказывает о своей парижской епископской хиротонии. Об её идее, изошедшей от отца Валерия Рожнова. О горячей поддержке и отстаивании его кандидатуры на Синоде архиепископом Варнавой. А после, о неоценимой помощи в состоявшейся хиротонии не кого-нибудь, а самого митрофорного протоиерея Вениамина Жукова – всесильного секретаря Синода РПЦЗ (В).
Не забывает он поведать и о том, как и почему, вдруг, отказался от своих слов поддержки и его хиротонии владыка Варнава [276]. Правда, причина отказа мне не совсем ясна, хотя и объясняет владыка Виктор подробно, стараясь ничего не пропустить, даже мелочей и деталей. Однако, как он ни старается, а прежняя неясность, всё же, у меня остаётся. От владыки Варнавы рассказ его плавно перетекает к владыке Анастасию [277]. В обоих случаях, владыка Виктор отзывается о своих собратьях епископах с желчным сарказмом и прямо-таки, каким-то, наполеоновским негодованием.
Я внимательно слушаю своего архиерея и пытаюсь не только ухватить, но и проанализировать смысл уже сказанного и услышанного.
И дело это не такое простое, как кажется.
Первое, что приходит мне в голову; если владыка Варнава «провинился» перед владыкой Виктором отказом участия в его хиротонии, то владыка Анастасий «повинен» в другом грехе. А именно, в том, что, сразу же после хиротонии, присоветовал ему поехать к владыке Варнаве в Канны и попросить там у него прощения. Попросить так, на всякий случай.
И если, вдруг, повезёт, то и примириться с ним.
Со слов владыки Виктора, а пуще того, его интонации можно было понять, что свой совет епископ Анастасий давал ему свысока, мотивируя его ни чем иным, как более низкой должностью владыки Виктора. Ладно бы сказал наедине. А то при посторонних людях епископ Анастасий, неожиданно, озвучил всем известный факт. Подчёркнуто сказал и так всем известное, что владыка Виктор, всё же, не правящий архиерей, как он сам, а всего лишь викарный епископ от Европейской епархии. А, стало быть, епископ Славянский [278] находится в полном подчинении и прямой зависимости от владыки Варнавы.
Владыка Виктор явно претендовал на большее назначение.
В должностном викариатстве и заключалось всё его негодование и «унижение». Ему страшно хотелось, как можно быстрее освободиться из-под опеки архиепископа Варнавы (Прокофьева) и непременно, самому стать правящим архиереем.
Дальше, из слов рассказчика, я понял, что своим поведением архиепископ Варнава настроил против себя не только одного владыку Виктора, но и самого отца Вениамина Жукова. А, следовательно, претенденство владыки Виктора на большее назначение обретало уже не иллюзорный, а вполне реальный и практический смысл. Владыка Виктор от меня ничего не скрывал. За трапезным столом он поведал, что механизм избавления от архиепископа Варнавы уже опробован и запущен отцом Вениамином. И что находиться ему на посту правящего архиерея Европейской епархии остаётся не так уж и много времени.
Родненькие мои!
Конечно же, от отца Валерия Рожнова, я знал о некоторых сложностях и нестроениях в РПЦЗ (В). И ничего особенного или удивительного в этом не видел. Ибо, Церковь Христову они сопровождают всегда. Ей так жилось во все времена. Бывало и хуже. И всё же услышанное от владыки Виктора намного превзошло моё воображение и мою прежнюю осведомлённость. Владыка Виктор не просто приоткрыл, он распахнул настежь двери церковной «кухни», о которой бы не хотелось мне знать. Своей доверительностью и открытостью он, как бы и меня приглашал поучаствовать в ней на его стороне, попутно и словесно облекая её в насущную и церковную необходимость, в правое и Божье дело.
Дальше епископ Виктор стал рассказывать о своих снах и видениях, о своём алтайском прошлом и о своём промыслительном, не иначе, как Божеском, предназначении в Церкви Христовой. Тогда я ещё не знал, что такое повествование, это обычное для него дело. И что каждому новому человеку, он рассказывает об этом всегда и примерно, об одном и тоже, находя в своих откровениях, какое-то непонятное для себя упоение. Глядя со стороны, можно было подумать, что перед тобой сидит полусумасшедший или же совсем погрязший в духовной прелести человек. При чём человек, не абы там какой, а с церковно-наполеоновскими наклонностями. С претензиями на непогрешимость и пресловутый вождизм. Если бы не большая панагия на его впалой груди, то, непременно, так и подумаешь. Панагия же многих уводила в сторону от подобных дум.
Увела она тогда и меня.
Это сейчас, я столь критически отношусь к рассказам владыки Виктора и довольно точно их анализирую. А тогда же, я видел перед собой только епископа-апостола Церкви Христовой и особо не задумывался о чистоте истока или православности его повествований. Правда, далеко не всё в них выглядело так уж однозначно сомнительно и совсем непонятно.
Своей кажущейся эрудицией, постоянными ссылками на Священное Писание, безаппеляционностью и напором владыка подавлял любого слушателя. Не давал ему вставить противное или хотя бы одно единственное вопросительное слово. Спорить с ним не имело никакого смысла, ибо всякий спорщик тут же выпроваживался владыкой вон и зачислялся им в разряд своих личных врагов. И если бы только личных врагов, а то и всей Церкви. Отмыться же потом от вражеского клейма, на моей памяти, так никому и не удавалось, и, по всей видимости, не удалось [279].
Он всячески подчёркивал своё духовное ученичество и преемство от некоего рьяного противника советской власти и верующего катакомбного человека – Якова Аркатова. Даже брошюрку о нём написал. Много у нас имелось противников советской власти. Это верно. Большинство из них погибло в сталинских лагерях ещё до войны. А кто выжил, тот как-то приспособился к новой жизни.
Свою веру в Бога человек может особо и не афишировать. Веруй себе потихоньку и живи. Господь разберётся, како ты веруешь. И Боже меня упаси! Я не сужу Якова Аркатова [280]. Но всё же интересно, как можно не знать православному епископу догмата, что без Церкви Христовой нет человеку спасения?! Это для меня и до сего времени, остаётся непонятным и удивительным явлением.
И ещё, помыслите сами, разве может здраво мыслящий православный катакомбник благословить и послать своего единственного воспитанника шпионить и набираться ума-разума не куда-нибудь, а в Московскую патриархию? В эту синагогу сатаны. Полагаю, что, нет, не может. Оправдывая же своё столь длительное пребывание в учебных недрах Московской патриархии, в духовной семинарии, а после и академии, на мой взгляд, владыка Виктор просто взял, да и придумал легенду о своём агентстве (!) в ней от Бога [281].
Сам придумал. А после в неё и уверовал.
Уж лучше бы молчал или тихо каялся.
Как бы там ни было, но то ли от усталости, то ли от безысходности своего положения, а то ли и ещё от чего, мне удалось высидеть и выслушать повествование епископа Виктора до конца и при этом, не задать ему ни одного вопроса.
Потом он перешёл к мистическому богословию. И здесь впервые мне стало слушать его интересно. Скажу откровенно, на тот период времени мои познания в области мистического богословия особенной широтой и глубиной взглядов не отличались. Владыка же Виктор показал се6я в этом вопросе настоящим знатоком и превосходным эрудитом.
Более того, он стал высказывать такие идеи и мысли, о которых я раньше никогда и слыхом не слыхивал. Он очень сильно меня ими заинтересовал, если не сказать - заинтриговал. Видя мой неподдельный интерес к его идеям, владыка Виктор воспрянул духом и пообещал познакомить меня со своими ещё неопубликованными работами по мистическому богословию, а также заодно познакомить с богословскими работами В. Лосского и некоторых других известных и мало известных мне авторов.
Наше сиденье за трапезным столом могло статься и дольшим, но приехали какие-то люди и стали просить владыку Виктора освятить им новый дом. Владыка не сразу с ними поехал. Прежде, он отвёл меня на второй этаж и показал одну общую комнату, где мне предстояло спасаться и жить. У обшарпанных стенок стояли четыре старых кровати.
Указывая на них рукой, владыка Виктор сказал:
Выбирай любую койку и устраивайся. Я скоро приеду. И тогда мы прерванную беседу с тобою продолжим. Сходим ко мне на квартиру. Там я покажу тебе свои неопубликованные работы. В еде не стесняйся. На меня не смотри. Сам я уже старый человек и ем, поэтому мало. А ты, что найдёшь на кухне или в холодильнике, можешь всё кушать от пуза. В еде греха нет. Это ещё и Василий Великий сказал. Аскетикой нам заниматься тут особенно некогда. Надо думать не о себе, а о спасения России.
Сказал. С тем и уехал на требу.
Я же открыл окно. Разобрал и повесил на плечики свои носильные вещи. И прилёг на первую приглянувшуюся кровать. Не заметил, как и заснул. Проспал я часа полтора или два. Когда проснулся, владыки внизу ещё не было. На кухне гремела посудой Параскева. В окно виднелась часть дороги и улицы. По ней ходили и ездили люди. На небе показались грозовые тучи. Они надвигались со стороны моря, но ощутимой прохлады тучи с собой не несли. Духота и жара по-прежнему всё так же висели в воздухе. Настроение после сна немного улучшилось. И жизнь показалась уже не такой скучной и однобокой.
В правом углу я заметил старенький столик. И до появления владыки Виктора успел прибрать с него какие-то пыльные бумаги и затем аккуратно выложить Священное Писание, Евангелие, Псалтирь и «Великороссию жизненный путь» покойного протоиерея Льва Лебедева. Даже успел чуточку помолиться, а после, у колонки умыться холодной водой.
С появлением Славянского архиерея время стало крутиться уже вокруг него. Он показал мне новый храм. Рассказал об истории его построения. Как ни странно, но деньги на строительство храма пожертвовал один местный богатый еврей. В сравнении с амосовским, Славянский храм отличался большими размерами, крестообразной планировкой и небесного цвета иконостасом.
К слову сказать и однокомнатную квартирку, где теперь проживал владыка Виктор, тоже пожертвовала приходу, уже ушедшая на тот свет, православная еврейка. Такие неожиданные жертвователи меня весьма удивили. По документам квартирка владыке не принадлежала. Официальные бумаги почему-то были оформлены не на него, а на матушку Наталию – супругу отца диакона Иоанна. Такое оформление позднее вызвало дополнительные трения между владыкой Виктором и отцом диаконом. И они случились тогда, когда бывшая семья архиерея, жена с сыном, поселилась в этой квартирке [282].
Квартирка располагалась на третьем этаже небольшого трёхэтажного кирпичного дома, буквально в трёхста шагах от храма. Когда владыка Виктор открыл своим ключом дверь, в нос сразу же шибануло затхлостью и давними пищевыми отходами. Внутри жильё выглядело ещё хуже. Пол грязный. На потолке и на окнах колышется паутина. На подоконнике, полу и на кровати свалены в кучу одежда, уфологические журналы и разные книги. Похоже, хозяин квартиры никогда в ней не прибирался. При такой духоте и запущенности долго находиться в ней не представлялось возможным.
«Как он здесь живёт?» - подумалось мне.
- Владыка. Благословите прибраться в квартире, - высказал я своё пожелание вслух.
- А. Не надо. Пусть всё остается, как есть.
Владыка покопался в книжном ворохе на широком подоконнике и вскоре извлёк на свет Божий две потрёпанные книги. Одна называлась «Посмертные вещания преподобного Нила Мироточивого Афонского», а другая – «Очерк мистического богословия Восточной Церкви» и «Догматическое богословие» Владимира Лосского.
Возьми и обязательно прочитай. Посмертные вещания Нила Мироточивого я, вообще, считаю второй книгой после Библии. Понравится тебе и книга Лосского. Читай внимательно. Потом мне скажешь, в каком месте он еретичествует.
Я взял предложенные книги. А владыка стал искать папку со своими трудами. Вскоре объёмная папка нашлась. Она оказалась в книжном ворохе на полу.
Вытащив искомое из-под книг, он протянул её мне.
Никому ещё не давал читать. Да и некому. Тебе даю первому. Когда прочитаешь, выскажешь своё мнение. И не стесняйся говорить, если что не понравится. Мне очень важно знать твоё мнение. Написал я это давно. Но публиковать не спешу. Да и не знаю – надо ли?
Взял я и толстую папку. По объёму она намного превосходила обе книги вместе взятые. Я спросил у владыки, что мне делать помимо чтения и как мне дальше молиться.
- А как ты молишься?
Я ответил [283].
Ну и молись, как молишься. Никто тебе не помешает. Пока же побольше читай. Придёт время, я тебе тогда скажу, что будем делать дальше. Нам надо двор полностью выложить плиткой и для септика яму выкопать. Но это потом, когда жара хоть немного спадёт. А пока ни на что не отвлекайся и только читай. До пострига тебе надо ещё многое прочитать. Когда всё это прочитаешь, получишь следующую порцию. Интересных и полезных книг у нас хватит. Ты что-нибудь с собою привёз?
«Великороссию» покойного отца Льва Лебедева.
- Я с ним когда-то вместе учился и даже немного дружил. Расскажу тебе позднее о нём. Пишёт он - зачитаешься. Только далеко не во всех словах его правда. Пошли в храм. Скоро за мной приедут на отпевание. Целый день приходится одному бегать, а помощников, как не было, так и нет никого.
Весь остальной день епископ Виктор всё ездил по требам. Отпевал, освящал квартиры и дома, служил в храме молебны и панихиды. После обеда Параскева уехала на велосипеде домой. И я оказался один. Делать мне было нечего, оставалось только читать. До самого ужина я этим делом и занимался, читал посмертные вещания преподобного Нила Мироточивого Афонского. Книга и вправду, мне очень понравилась. Читаю я быстро, поэтому к вечеру почти всю её прочитал.
Время пролетело незаметно, хватило его и на осмысление первого дня. Несмотря на свои странности и причуды, владыка Виктор мне, в общем и целом, понравился. Главное - у него имелось чему поучиться. А, что он слегка юродствует и показывает уж слишком характерные интересы, это не беда. Вольному – воля, а тем паче епископу. Свиду он совсем неухоженный, в стареньком и грязном подряснике, и такой одинокий. Даже поговорить ему не с кем. Жалко мне стало епископа. Да и я ему, видать, приглянулся. Иначе, не стал бы он посвящать меня в церковные тайны и показывать свои труды. Не знаю, что там порассказал ему обо мне отец Валерий Рожнов, но первый свой день в Славянске-на-Кубани я посчитал удавшимся.
Во время позднего ужина, владыка Виктор стал, всё больше, рассказывать о епископе Вениамине (Русаленко) [284] и в частности, о лазаревском расколе РИПЦ [285]. Вот тогда-то я впервые и услышал о содомском грехе архиепископа Лазаря (Журбенко) и его бывшего келейника - епископа Вениамина. Владыка Виктор не скрывал к ним своего глубочайшего презрения и отвращения. До недавнего времени, весь его славянский приход находился в прямом подчинении епископа Вениамина. И владыка Виктор с ним часто встречался. Знал его превосходно. Поэтому, когда речь заходила о лазаревском воспитаннике, владыка говорил, пытаясь подражать его голосу и поведению. Пародист из владыки Виктора – никакой. Мне ещё подумалось, что уж лучше бы он говорил не кривляясь, а нормальным человеческим голосом.
Епископа Вениамина я лично не знал, хотя, кое-что и слышал о нём, а вот с архиепископом Лазарем однажды встретиться мне довелось. Я поведал архиерею о своём знакомстве с Лазарем и кратком пребывании в его загородной резиденции.
Он меня внимательно выслушал, но сказать ничего не сказал [286].
Пока я говорил, владыка, похоже, уже потерял интерес к этой теме. После окончания моего повествования, он сразу же перескочил к архиепископу Варнаве Каннскому. И разговор его закрутился вокруг, какого-то неизвестного мне, иеромонаха Серафима (Баранчикова) – молодого помощника престарелого Варнавы. Со слов владыки Виктора выходило, что Серафим Баранчиков и является тем самым дамокловым мечом, нависшим над владыкой Варнавой. И не просто нависшим, но и в любую минуту готовым упасть и отсечь ему голову.
Кто манипулирует этим мечом?
Да, конечно же, отец Вениамин Жуков. Кто же ещё?
Отец Вениамин, обвинив Серафима Баранчикова в содомском грехе, «слёзно» [287] просил владыку Варнаву, как можно быстрее, убрать своего молодого помощника от себя и тем устранить опасность даже и гипотетического компромата. Отец Вениамин справедливо полагал, что узнай церковная общественность о греховном прошлом (а может быть и настоящем) иеромонаха Серафима, тогда будет очень сложно избежать негативной огласки, а, следом за ней и информационной грязи, которая непременно выльется на всю Церковь. Каждому здравому человеку понятно, что держать возле себя содомита, это всё равно, что самому быть содомитом. Как ни странно, архиепископ Варнава этого не понимал или не хотел понимать. Он упрямо не соглашался с доводами отца Вениамина. И своим непонятным упрямством ещё больше подставлял себя под удар. Что, конечно же, было на руку и отцу Вениамину и владыке Виктору.
По правде сказать, секретарь Архиерейского Синода РПЦЗ (В) обвинял иеромонаха Серафима (Баранчикова) не на пустом месте.
От владыки Виктора я услышал одну весьма любопытную деталь. Оказывается, что трудами отца Валерия Рожнова, в руки отца Вениамина Жукова попал довольно весомый козырь против капризов владыки Варнавы. В руки отца Вениамина попал исповедальный документ, некогда поданный самим же иеромонахом Серафимом (Баранчиковым) в Синод РПЦЗ и рассказывающий не о чём-нибудь, а о его пятнадцатилетней содомской связи с небезызвестным архимандритом Иосаафом (Шибаевым) [288] из старинного города Обоянь, что в Курской области. Заявление, на себя и на архимандрита Иосаафа, Серафим Баранчиков подал в Синод несколько лет тому назад. И подано оно было только с одной целью - чтобы Архиерейский Синод РПЦЗ, ни в коем случае, не хиротонисал Иосаафа (Шибаева) в епископы [289].
Причиной подачи такого, скажем так, неординарного заявления послужило не раскаяние падшего иеромонаха Серафима в своём долгом содомском грехе, а его лютая ненависть к архимандриту Иосаафу, основанная на подозрении последнего в убийстве родного брата отца Серафима. Вот такие, не иначе, как самые, что ни на есть, детективные новости я услышал из уст владыки Виктора (Пивоварова).
Родненькие мои!
Тогда я ещё не знал, что содомский грех иеромонаха Серафима (Баранчикова) был давным-давно известен и отцу Вениамину и отцу Валерию Рожнову. И до поры, до времени, оба они смотрели на этот грех сквозь пальцы. Когда же понадобился компромат на архиепископа Варнаву, их взгляды резко и неожиданно поменялись. Содомским грехом иеромонаха Серафима ими (нами) открывалась бездонная яма для неугодного владыки Варнавы. Что тут сказать, мои детушки?
К тому и аз, грешный, руку свою приложил.
Ещё во время рассказа владыки Виктора, мне вспомнилась одна давняя фраза, случайно оброненная игуменом Григорием (Кренцив). Игумен Григорий тогда обмолвился об одном падшем иеромонахе, направленным в его монастырь самим архиепископом Лазарем для отбывания епитимьи за свои тяжкие грехи. Я вспомнил и вопрос Лазаря об этом иеромонахе.
Он спросил меня в Дальнике.
- А иеромонах Серафим у отца Григория?
Я ответил, что, нет. И что не знаю никакого иеромонаха Серафима. Владыка Виктор тут же ухватился за мои воспоминания и попросил быстренько изложить их в письменной форме. Он полагал, что мои воспоминания отцу Вениамину уж, как-нибудь, пригодятся. Что я мог написать? Впрочем, что слышал от игумена Григория и от архиепископа Лазаря, то и написал.
К братьям Лебедевым, иерею Вячеславу и псаломщику Алексею, иеромонах Серафим имел гораздо более плотное отношение. Они знали его очень давно и намного лучше нашего, но, однако же, от участия в добивании своего бывшего знакомого, а, следовательно и архиепископа Варнавы, категорически отказались. Что, конечно же, в очах Господних сделало им славу и честь. Их отказ от «борьбы», прямо-таки, взбесил епископа Виктора и тогда я впервые услышал от него монолог о, якобы, жидовских корнях их покойного батюшки – отца Льва Лебедева. Сказано это было в порыве страшного гнева и потому так надолго запомнилось.
Не судите строго.
Владыку Виктора тоже можно понять. Всю свою жизнь он пытался, хоть, как-то, саморелизоваться. Писалось в стол много, а жилось трудно. Исключение из духовной академии. Неудачная женитьба. Частые хлопоты в поисках хлеба насущного. Невосполнимая потеря младшего сына. Потом сумасшествие жены. Вечное неустройство. И всё это на фоне постоянной комплексации из-за маленького роста и как ему казалось, своего физического несовершенства. В этот же вечер владыка сказал мне одну странную вещь; что, будто бы и епископом, он стал для того, чтобы реализовать свои политические и богословские идеи. А если не удастся реализовать, то, хотя бы, погромче их высказать. Ибо, к словам православного епископа люди прислушиваются, всё же, гораздо внимательней и намного чутче, чем к словам простого священника. Вот здесь я не сдержался и впервые владыке Виктору возразил, напомнив ему о приоритетности епископского служения.
Владыка Виктор немного подумал и со мной согласился.
Под конец вечерней беседы мы поговорили с ним и о посмертных вещаниях Нила Мироточивого. Епископ Славянский удивился быстроте моего чтения и благословил читать дальше. По его виду угадывалось нетерпение поскорее услышать отзыв о своих работах.
Солнце зашло за горизонт. На улице сгустились вечерние сумерки. И за окнами трапезной быстро стемнело. Владыка не стал дожидаться полной темноты. Он отдал мне связку ключей, а сам суетливо засобирался домой. Я испросил благословение на ночь и проводил его до тротуарной тропинки. А после, закрыв на ключ калитку, вернулся в серо-красное здание.
Спать мне не слишком хотелось. Молиться тоже на сон рановато. Поэтому я с чистой совестью дочитал святую книгу и открыл владыкину папку. После нескольких прочтённых абзацев я остановился, хорошо понимая, что смысл текста остался где-то за ушами. Своеобразность владыкиного письма отдавала таким затрапезным провинциальным слоганом и такой глубинной дремучестью, что сразу же на ум приходило сравнение, будто это писал человек не двадцать первого века, а, по крайней мере, века, этак, шестнадцатого, а то и ещё глубже. Приноровиться к подобному письму стоило мне большого труда и терпения.
Даже, несмотря на мои недостаточные познания в области мистического богословия, но, после десятка-другого страниц с превеликим трудом одолённого текста, становилось ясно и мне, что епископ Виктор ступил на тончайшую часть богопознания, с которой, без Божьей помощи, неминуемо свалишься в ту или иную сторону. И неминуемо разобьёшься.
Помыслите сами.
Разве Господь дал человеку недостаточно для его надежды спасения? И разве, знать существам земнородным, то есть нам с вами, свыше Им даденной истины – не глупо, а порой и не кощунственно ли? Можно и ложкой черпать океан. Случались подобные попытки в церковной истории. Они всем известны. Да, толку-то. Попытка владыки Виктора истолковать предполагаемое им же суждение, выяснить запредельное и попробовать Божественное предназначение окинуть своим, мягко говоря, несовершенным человеческим разумом, выглядела, о, если бы просто смешной. Или хотя бы, подобной попытке таракана извлечь квадратный корень из некоего числа. Она выглядела гораздо плачевней и я бы сказал, гораздо неприятней. Возможно и не зная того, но в своих машинописных трудах, владыка Виктор наглядно и довольно-таки убедительно показывал всё наше человеческое убожество, всю нашу немощность и всю нищету в сравнении с Господом нашим - Творцом.
Зачем ему это было надо? И для чего? Зачем, например, предполагать большее число ангельских чинов, чем сказано святым Дионисием Ариопагитом? Для чего повторять свидетельства многочисленных очевидцев НЛО и предполагать заселение иных планет разумными существами? Кому надо копаться в иерархии Денницы? И утверждать его чинное превосходство перед Архангелом Михаилом. Или же предполагать, что человек сотворён Господом не из праха земного и духа, а уже из готового «генного» материала.
И так далее и тому подобное…
Некоторые аспекты его умозаключений казались мне правдоподобными. Ну и что из того? Праздные мечтания и поиски славы земной, это грех. О чём мечтал и мечтает владыка Виктор, мне стало понятно. А вот чего он искал и что ищет, того я так и не понял.
Не за один вечер я прочитал его труды. На это мне понадобилось больше времени. Да и после прочтения, я долго обдумывал и не торопился высказывать своё мнение. Где-то наивно надеялся, что владыка забудет и не станет ни о чём меня расспрашивать.
В эти первые дни, помимо чтения книг и мелких услуг Параскеве по хозяйству, я успел немного побродить по городу и познакомиться с некоторыми прихожанами. Сам Славянск-на-Кубани, как город, никакого интереса не представлял. Единственное, что сюда привлекало пришлых людей, это относительная близость Чёрного моря. Город лежит на ровной и довольно-таки болотистой местности. Оттого и «благоухает» болотной тиной и неприятными испарениями.
Городской статус Славянск-на-Кубани получил недавно. В царское время - это обыкновенная казачья станица - Славянская. И только позднее, уже в годы советской власти, станица разрослась до нынешних городских пределов. Помимо русских и украинцев в городе проживают крупные; армянская, греческая и цыганская общины. Также много живёт евреев и магометан.
У кого я не спрашиваю, никто точно не знает количество городских жителей. Называются разные цифры - от шестидесяти тысяч до ста. Помимо маленького храмика РПЦЗ (В), в городе величественно сияет своими золотыми куполами ещё и огромный, ухоженный храм Московской патриархии. Там настоятельствует лютый противник Зарубежной Церкви, известный на всю округу бытоулучшитель своей личный жизни и скрытый безбожник - этнический еврей из Белоруссии по фамилии - Гаврильчик. Его проповедная ложь об РПЦЗ (В) и владыке Викторе разносится по всему городу и быстро становится притчей во языцех.
Храм же РПЦЗ (В) - Покрова Пресвятой Богородицы – жители города часто называют ещё - церковью для бедных. Плату за требы владыка Виктор не назначал. Если кто, что пожертвует, то и, слава Богу. Поэтому и идут в Богородичный Предел люди далеко не самые богатые.<p
Викарный архиерей приходит в храм в шесть часов утра. До восьми часов он молится на клиросе и там же пишет свои многочисленные статьи и письма. В восемь часов - служит панихиду. В десять - крестит младенцев и взрослых людей. Завтракает владыка между панихидой и крещением. А после крещения идут уже все остальные требы – отпевания, освящения домов и квартир, собеседования с паломниками и прихожанами. Иной раз, с раннего утра, он отправляется к больным прихожанам исповедовать их и причащать.
Оставалось время и для наших с ним разговоров. И понятное дело, говорил, всё больше, епископ, а я, как и положено послушнику, внимательно слушал.
На первых порах моё знакомство с городом ограничивалось ближайшим продовольственным магазином и центральной улицей. По центральной улице я прошёлся от храма и до набережной Протоки. Городок мне, как-то, не показался. Без всякого преувеличения его можно назвать не городом, а большой деревней. Хотя он и имеет филиал педагогического института, сельскохозяйственный техникум, профтехучилище, четыре небольших заводика, швейную фабрику и элеватор. Ещё городок пестреет многочисленными киосками, магазинами и магазинчиками, машинными мойками и мастерскими.
Железнодорожная ветка на Новороссийск проходит прямо через городскую окраину. Однако железнодорожная станция почему-то называется не по названию города, а по названию притока Кубани. Что часто вносит досадную путаницу и задержки при покупке билетов. Располагает ещё город автомобильным вокзалом, недействующей речной пристанью и двумя небольшими базарами.
Если бы не духотища и не болотные испарения, то жить в таком городе – одно удовольствие. Вокруг Славянска-на-Кубани раскинулся знаменитый сад - «Гигант», рядом проходит федеральная трасса к Чёрному морю и чуть дальше и по всему району – рисовые чеки. В районе много различных водоёмов, а, следовательно, водоплавающей птицы и рыбы. Одна пара белых лебедей живёт прямо на городском озере. Можно к ним запросто подойти и покормить хлебом.
Что и делают любители местной экзотики.
На храмовой территории, помимо поварихи – Параскевы, несут ежедневное послушание - Апполинария и Анна Власовна. Апполинария прибирается в храме, а Анна Власовна занимается плодовыми деревьями, кустарниками и землёй. Работают сёстры охотно, с большой радостью и любовью. Оттого и прекрасные результаты их богоугодного труда.
Имелось и у меня послушание в храме. По архиерейскому благословению, я слежу за чистотой в алтаре. Пономарю на богослужениях. Выношу свечу на входах и на чтение Евангелия. И на Утрени ещё читаю шестопсалмие. Служит владыка Виктор редко – только по воскресеньям и в большие праздники. Проскомидию он совершает с шести часов утра. Часы читаются без двадцати восемь. И ровно в восемь начинается Литургия оглашенных и Литургия верных.
Диакон Иоанн на службы всё время опаздывает. И тому есть объяснение. Рядом с федеральной трассой он содержит небольшой магазинчик строительных и бытовых товаров. В погоне за барышами, ему приходится часто разъезжать по краю в поисках ходового и дешёвого товара. Постоянные дорожные разъезды съедают не только хозяйственное, но и служебное время. Поэтому ему и не удаётся успевать к самому началу службы. Такое положение дел сильно нервирует владыку Виктора. Но как-то повлиять на своего клирика, он пока не в состоянии. Дело в том, что через отца диакона, матушка Наталия снабжает его электронными письмами и церковными новостями из интернета. Владыка Виктор так пристрастился к компьютерной информации, что уже не может представить свою жизнь без электронного «наркотика».
Оттого и терпит грубость и опаздывания своего диакона.
Чисто по-человечески, мне очень жаль владыку. Хочется ему подсказать правильное решение. Оно предельно простое и лежит на поверхности. Однако я этого не делаю, а терпеливо молчу. Отец диакон и так на меня дюже сердится. А подскажи я владыке выход из-под его унизительной зависимости, тут же разразится настоящая буря. Ничего не поделаешь. Характер у него такой. Придумал себе байку, будто бы я встал между ним и владыкой Виктором. Потому и сердится. И злится как хорёк. Хотя, окажись на моём месте другой – разницы никакой. Диакону Иоанну всё равно. Было бы на ком-то зло сорвать. Его поведение – оселок моего смирения. Несправедливости и обиды я терпеливо сношу и всё радуюсь.
Слава Богу за всё!
Храм и прихожане мне полюбилися сразу же. Приметили и они меня. Это главное. А всё остальное с Богом приложится.
+ + +
И всё же, тешил надеждой я себя понапрасну. Владыка Виктор прекрасно помнил и ни на минуту не забывал о своих богословских работах.
- Что ты можешь сказать о них, - спросил он меня однажды вечером.
Я давно был готов к ответу. И вопрос архиерейский врасплох меня не застал. Просто день сегодня выдался трудный. С одним пришлым братом мы выкопали большую сливную яму для септика. Завтра нам предстояло выложить её изнутри кирпичом. Потное тело просило отдыха и требовало чистой воды. Солнце давно зашло за горизонт. В воздухе посвежело. И первые убаюкивающие звуки цикад и кузнечиков уже начинали выстраиваться в общую и почти мелодичную гамму. Мы сидели с владыкой Виктором за трапезным столом и сквозь открытые окна, прислушивались к трелям этих удивительных насекомых.
Впрочем, всё это лирика.
Вопрос задан и наступила пора отвечать.
Знаете, владыка, - начал я после длительного молчания. – Скажу вам со всей откровенностью, раньше мне ничего подобного читать не доводилось. И я даже точно не знаю, писал ли кто из богословов на такую сложную тему. Из-за недостаточной подготовленности, мне трудно сказать о ваших трудах нечто однозначное. Полагаю, что это и не столь важно.
Гениальность и ересь – часто идут рука об руку рядом, нередко, являясь двумя сторонами одной и той же навязчивой мысли или фантастической идеи. Когда это так, то от богословия такие мысли и идеи должны находиться в стороне. Как вы помните, у католиков, во времена «святой» инквизиции и за гораздо более лёгкие мысли, отправляли мыслителей на костёр. Вы - православный архиерей. И этим всё сказано. Что ещё можно добавить к богословию? Разве не всё сказали Учителя и святые Отцы Церкви? Господь нам дал необходимую полноту для спасения.
И это так.
И спорить с этим глупо и безполезно.
То есть, ты считаешь, что публиковать мои богословские работы не следует? – перебил меня викарный Славянский архиерей.
- Нельзя их публиковать.
И всё же, почему? Я хочу услышать от тебя более ясный ответ.
- Если вы их опубликуете, то вызовите губительный огонь на себя и на Церковь. Из-за сложности темы, достойных оппонентов вы не дождётесь. И ожидаемой полемики вы не получите. В церковной печати начнётся оголтелая и безаргументная критика. Проще говоря, начнётся обыкновенная травля, на которую трудно, что будет толково ответить. Вы же знаете, врагов у вас и у Церкви хватает. Публикация ваших трудов, просто-напросто, развяжет им языки и сорвёт их с цепи.
После моих слов владыка Виктор задумался.
И немного погодя, едва слышно сказал.
- Пожалуй, ты прав. Не следует всё это публиковать. Тогда, зачем я всё это написал? – и он кивнул головой в сторону второго этажа.
Кивнул туда, где я молился и ночевал. И где на шатком столике всё ещё лежала его пухлая папка с машинописными работами. Как мне показалось, кивнул без особого сожаления. С его благословения, я вернул ему эту папку. Владыка сунул её в целлофановый пакет и сразу же заторопился к выходу. Как и во все предыдущие вечера, я проводил его за церковную ограду. Сняв свой старый берет, он благословил меня на прощание и по-стариковски, сгорбившись, медленно ушёл в надвигающуюся ночь.
Больше к этой теме мы никогда не возвращались.
После, меня многие упрекали, что будто бы я не оказал должного влияния на владыку. И вовремя не предупредил его о последствиях публикаций. Как видим, упрёки эти совершенно безпочвенны. Да и сам владыка Виктор, не из тех самых людей, на которых можно, как-то, легко и запросто повлиять. Если и была ему присуща некая трусоватость, то основывалась она не на интеллектуальной, а на физической матрице.
Это, во-первых.
А, во-вторых, надо, ведь и понимать, что дистанция между послушником и епископом – огромнейшая. И мне ли преставало учить епископа правильной вере? Не он пришёл ко мне за надеждой спасения, а аз - многогрешный. Никуда не подевался и элемент послушания. Свою волю я постарался отсечь за церковной оградой. Тем жил и живу. Послушание и до сего дня, остаётся для меня не пустым звуком, как это теперь принято и распространено повсеместно, а наипервейшим богоугодным делом. Оно - основа основ христианской жизни для любого верующего человека.
Утеря христианской культуры – в предантихристовое время - как никогда ранее, способствует духовным шатаниям и церковным расколам. Сегодня на почве элементарного безкультурья и по указке сильных мира сего, в церковном собществе [290] создалась всем известная, упрямо учительствующая «элита». Ко всему прочему, взявшая на себя ещё и смелость генерировать церковно-общественное мнение об истинности вероучения и о ком бы то ни было, в частности. Мы уже дожились до того самого окаянного времени, когда по меткому слову святителя и чудотворца Димитрия Ростовского: «…и уже о вере и простые мужики и бабы, весьма пути истиннаго не знающии, догматизуют и учат…».
И если бы только они. Иногда складывается такое впечатление, что будто бы всё общество сошло с ума и от нечего делать, взялось не за своё дело. Сегодня, едва ли, не каждый сам себе пастырь и сам себе поводырь. Поди и попробуй, докажи такому «епископу» или «митрополиту» его или её заблуждения. Все пишут и все говорят. А откуда и отчего весь этот шум?
Да, от гордыни и от лукавого.
Я учился себя вести с людьми не на общественных диспутах и не на демократических собраниях, а по книгам старцев и святых Отцов Церкви. Уважение к людским сединам впитал ещё с молоком матери. Хуторская и вся остальная жизнь тоже многому научила. Поэтому зряче видел границу черты, за которой маячили дерзость и своеволие.
Повторяю, к этой теме мы больше не возвращались, а, следовательно, у меня и не оставалось никаких поводов для дальнейшего убеждения владыки. На пару месяцев нас захватили наиважнейшие церковные дела, и было совсем не до убеждений и богословских дискуссий.
Несмотря на многие духовные коллизии и просто человеческие несуразицы, у владыки Виктора имелось чему поучиться. Его чрезвычайная работоспособность, возможность в любое дневное время и при том, с одинаковым успехом писать статьи и дискутировать – казалась мне поразительной. Он превосходил меня в общем богословии и в знаниях текущего церковного момента. Лучше разбирался в истоках последних расколов от РПЦЗ. Владыка Виктор гораздо свободнее и намного сдержаннее относился к признанным церковным авторитетам и даже святым. Но такое отношение, я считал, его личным грехом. Мне-то, какое дело до этого? Обратно же, отменное знание литургики, сектоведения и церковной истории, делало ему честь. И всё это, в совокупности, позволяло смотреть на него, как на учителя и православного архиерея.
А не, как, на кого-то другого.
Пожалуй, я лучше знал русскую и мировую истории. Свободнее разбирался в прошлой и современной политике. И как ни странно, мой житейский опыт и особенно, в купе с опытом северным, смотрелся качественней и, если хотите, поучительней, то есть выше его опыта. У меня не имелось никаких комплексов [291]. И в отличие от владыки, я намного лучше думал о людях. Моё мировоззрение давно и вполне сложилось через православную призму. Если оно и требовало корректировки, то совсем незначительной. Не знаю, научился ли чему от меня владыка Виктор, но то, что он видел и уважал моё мировоззрение - об этом можно сказать однозначно.
В первые год - полтора своего архиерейства, только один человек действовал на Славянского владыку не хуже удава на кролика. И таким единственным человеком оставался – митрофорный протоиерей Вениамин Жуков – секретарь Архиерейского Синода РПЦЗ (В).
К моему приезду в Славянск-на-Кубани, их общение носило уже настолько тесный и дружественный характер, что любой телефонный звонок или факс из парижских предместий, воспринимались владыкой Виктором, едва ли не, как манна небесная. Особенно это подмечалось в короткий период его викариатства. Став же правящим архиереем, лакейской прыти у него поубавилось. Степеней свободы выпало значительно больше. И многие насущные вопросы решались владыкой, как и должно - вполне самостоятельно – без частых подсказок и без оглядки на предпарижские кущи.
Хотя и не без прежней опаски.
А вот с моим другом - отцом Валерием Рожновым, у владыки Виктора назревала натяжечка. Почему-то отец Валерий решил, что его богословские и церковно-административные познания уже выросли из коротких деревенских штанишек и вышли на высочайший, а, следовательно и безапелляционный уровень, позволяющий ему поучать всех и вся. В том числе, поучать и Славянского архиерея. Если с отцом Вениамином у владыки Виктора складывались, а потом и сложились общие административные отношения, в удаче которых они были оба кровно заинтересованы [292], то с отцом Валерием вышло совсем по-другому.
<pНачав поучать владыку Виктора, отец Валерий, сам того не ведая, наступил на самый больной архиерейский «мозоль». Наступил на затаённую гордыню и бурно зарождающуюся духовную прелесть. В силу своей послушнической новоначальности и неискушённости в церковных интригах, я тогда ещё не во всём хорошо разбирался. И многое не до конца понимал. Однако, сопереживая, я воочию видел, как с каждым новым днём, отец Валерий, всё меньше и меньше, перестаёт интересовать владыку в качестве своего основного помощника и не в последнюю очередь – главного заступника и челобитчика перед «всемогущим» и «всесильным» секретарём Архиерейского Синода.
Тогда мне и в самом деле, казалась, что первопричиной потери архиерейского интереса - прочные и уже вполне устоявшиеся телефоно-телефаксные отношения между владыкой Виктором и отцом Вениамином Жуковым. «И в самом деле» - думалось мне – «зачем излишнее посредничество, когда высокопоставленные церковные люди могут обходиться и без оного?».
К сказанному следует добавить, что, достигнув желаемого результата и получив в окормление Южно-Российскую епархию (и на неопределённое время всю остальную часть европейской России), владыка Виктор начинал смотреть на своего бывшего протеже - отца Валерия Рожнова, как на уже отработанный и совершенно ненужный человеческий материал [293].
Кому-то мои слова не очень понравятся. Но я их, всё же, произнесу, ибо истина много дороже комфортности - владыку Варнаву никто не изгонял из РПЦЗ (В)!
Это так.
К сегодняшнему дню, по его «изгону», много всего наговорено и столько уже понаписано, что и вспоминать не хочется. Едва ли не на каждом информационном «углу», про «беззакония» и канонические «несправедливости», в отношении этого очень уставшего и несчастного человека, кричали не только наши духовные противники и записные оппоненты, но и все, кому не лень. И ещё, как кричали. Что ж, ничего нового в этом нет. В жизни случаются интересные парадоксы. Часто, кто согрешил и провинился, тот громче всех и кричит: «держи вора!». Сейчас эти люди временно поутихли. Только вот надолго ли?
Владыку Варнаву никто не изгонял из РПЦЗ (В).
Он сам себя изгнал из Церкви Христовой. Сам себя поставил в положение нетерпимое. Поставил в положение исключительное, требующее незамедлительной, а то и мгновенной реакции. Все попытки образумить и урезонить Каннского архиерея оказались тщетными. Он вышел из подчинения Архиерейского Синода. И если бы только на этом дело и кончилось.
Однако, увы…
Архиепископ Варнава пошёл гораздо дальше. Он стал вести «самостоятельную» политику против Церкви. Своими разрушительными действиями и просодомским поведением дискредитируя не только высокое архиерейское звание, но и всю РПЦЗ (В).
Весь архиерейский путь архиепископа Варнавы, от начала и до конца, получился настолько корявым и настолько скользким, что не вижу смысла о нём повторяться. Он ещё хорошо сохранился у каждого в памяти. Не приведи, Господи, такого пути!
Несмотря на некие двойные стандарты и подходы по его вразумлению, а после и лишению власти [294], в целом, по духу и даже по букве, с владыкой Варнавой поступили канонически верно и вполне справедливо. Что заслужил, то и получил. Эти слова наглядно и достаточно убедительно подтверждаются его дальнейшими духовно-телесными шатаниями и блужданиями.
Его постыдным впадением в грех отступления и раскола.
Уже при архиерейской хиротонии владыки Виктора, воля архиепископа Варнавы оказалась связанной и несвободной.
И чем дальше, тем хуже…
Так что, ни митрофорный протоиерей Вениамин Жуков, ни епископ Виктор (Пивоваров) и никто другой, не виноваты в отстранении владыки Варнавы от архиерейской власти и лишении его священнического сана. Будь он не с дьяволом, а с Богом, кто бы его посмел отстранить?
Не говоря уже о лишении сана.
Родненькие мои!
Весь первый месяц своего пребывания в Славянске-на-Кубани, я провёл в постоянном чтении интереснейших книг, посильной физической работе, послушании в храме и непрестанном изучении текущих церковных дел. И не только первый, но и месяц второй, месяц третий…
Я нормально прижился. Вошёл в курс многих событий. Духовные горизонты расширились. И церковная жизнь захватила меня целиком.
Правильно ли я жил и спасался?
Бог весть. Мне трудно ответить на эти вопросы. Тогда я особо не задумывался над правильностью или спасительностью. Да и сравнивать особо тут не с чем. Я жил в Церкви. Жил Церковью. И разве духовным поводырям не виднее, как правильней и спасительней жить?
Я верил им и полностью доверял.
Видел и знал, какой жизнью живёт отец Валерий Рожнов. И каких-то резких отличий в жизни Славянского архиерея я не замечал. Та же самая церковная и околоцерковная суета. И те же самые насущные дела, плотно прикрытые щитом пользы церковной. Эти два близких мне человека жили не для себя. Так, по крайней мере, мне тогда верилось и даже казалось. Это потом, я стал гораздо лучше во всём разбираться. Видеть, чего раньше не видел. И тоньше многое подмечать. Но это потом. А в первые месяцы своего послушания, я старался смиренно учиться и брать пример со своих старших отцов.
Старался научиться от них, чего ещё сам не умел.
И как думается, на этом поприще мне удалось преуспеть. С Божьей помощью, я, довольно быстро, разобрался в недавних расколах и текущей церковной политике. Научился мыслить совершенно иными, всеохватывающими категориями. Владыка Виктор это вскоре приметил, почувствовал. И благословил. После чего, я сразу начал помогать ему; постепенно разгружая от нудных и обременительных секретарских обязанностей, второстепенных и третьестепенных дел. Мы стали больше с владыкой общаться. Вместе горячо обсуждать и анализировать епархиальные и общецерковные проблемы. С энтузиазмом, что-то планировать. И желать лучшей духовно-практической жизни для епархии и РПЦЗ (В).
Для скуки и праздности времени не оставалось.
ГЛАВА ВТОРАЯ. Размышления о монашестве и не только
Постриг. Рукоположения. Первые пресвитерские шаги.
Сын мой! если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению: управь сердце твое и будь тверд, и не смущайся во время посещения; прилепись к Нему и не отступай, дабы возвеличиться тебе напоследок.
(Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова. 2. 1-3).
Душа моя успокоилась.
Но я всё ещё никак не мог полностью избавиться от прошлой мирской суеты. Нет, нет, а что-нибудь, да и выплывало из глубины сознания. И попробуй его прогони. Не простое это дело и оно не всегда у меня получалось. Как бы там ни было, а возвращаться в мир мне уже не хотелось. Все былые сомнения уже улетучились и остались позади. Поздними вечерами (и ночами) я молился на втором этаже кирпичного строения, трепетно ожидая одного из главных событий в жизни – монашеского пострига.
Время шло.
Остались позади и храмовый праздник – Покрова Пресвятой Богородицы, и общая победа владыки Виктора и отца Вениамина Жукова над архиепископом Варнавой. Кануло в лету и моё административно-церковное и прочее дилетантство. Поздняя осень постепенно вступала в свои права. Жара немного спала. И стало легче двигаться и свободней дышать.
Когда все прихожане выходили из церковной ограды, и за последним человеком [295] я закрывал входную калитку, внутри устанавливалась долгожданная тишина и покой. Через открытые окна ещё долго доносился шум вечернего города и я отчётливо слышал, как ветреные порывы шуршат осенней листвой и москитными занавесками, но ни шум города, ни ветреные порывы молиться мне не мешали.
До полуночи я вычитывал несколько кафизм из Псалтири и далеко заполночь вычитывал монашеское правило и вечерние молитвы. Читал и главы из Священного Писания. Во время молитв не забывал прислушиваться к телефону. Чаще звонили из России и реже из-за границы. Телефон стоял в храме. Поэтому надо было не только вовремя услышать звонок, но и успеть добежать к телефону.
Зачем человеку монашество?
Детушки мои дорогие! Великое множество раз я задавал [296] себе этот трудный вопрос. И в самом деле, зачем? Ведь и святые Отцы не каждого просящегося благословляли на монашескую жизнь. Когда, грешным делом, я взвешивал своё монашеское и мирское, то часто вспоминал удивительный и поучительный случай, произошедший с блаженным Антонием Великим.
Я напомню его в пересказе из Отечника епископа Игнатия (Брянчанинова).
«Однажды блаженный Антоний молился в своей келии, то был к нему глас.
- Антоний! Ты еще не пришел в меру кожевника, живущего в Александрии.
Услышав это, старец встал рано утром и, взяв посох, поспешил в Александрию. Когда он пришел к указанному ему мужу, тот крайне удивился, увидев у себя Антония. Старец сказал кожевнику.
- Поведай мне твои дела, потому что из-за тебя пришел я сюда, оставив пустыню.
Кожевник отвечал.
- Не знаю за собой, чтоб я сделал когда-либо и что-либо доброе. По этой причине, вставая рано с постели, прежде чем выйду на работу, говорю сам себе: «Все жители этого города, от большого до малого, войдут в Царство Божие за свои добродетели, а я один пойду в вечную муку за мои грехи». Эти же слова повторяю в своем сердце, прежде чем лягу спать.
Услышав это, блаженный Антоний отвечал.
- Поистине, сын мой, ты, как искусный ювелир, сидя спокойно в своем доме, стяжал Царство Божие. Я хотя всю жизнь и провожу в пустыне, но не стяжал духовного разума, не достиг в меру сознания, которое ты выражаешь своими словами» [297].
Антоний Великий - великий молитвенник и монах. А имя кожевника даже и не упоминается. Вот вам и житие монашеское и мирское.
- Дети! Любите, друг друга, - неустанно повторял апостол Иоанн Богослов.
А так пуще всего, я вспоминаю смирение Господа нашего Иисуса Христа перед распятием и уже на кресте. Вот, уж, воистину, где настоящие - Смирение и Любовь!
А, кто мы такие? Как мы живём в этом мире? С любовью живём и смирением? Идём мы путями Господними? Нас поносят и бьют, а мы терпим и молимся за нечестивых? Нас оплёвывают и распинают, и мы смиряемся и всё терпим, и терпим?
Увы!
Гордыня и себялюбие разъели наши души. Маловерие и страх пред сильными мира сего идут с нами рядом или преследуют нас по пятам. В очах человеческих, а не в очах Господних мы ищем для себя мирскую славу и честь. О каком же спасении может идти речь, когда все мысли и помыслы наши упираются в это земное и конечное, упираются в тлен и мертвечину, а не стремятся в жизнь вечную и живую? Так не всё ли равно, где нам тогда умирать? В мнимом монашестве или же апостасном миру…
Не обо всех речь, а о многих.
Мы сегодня много думаем о врагах наших. Слишком много думаем. Задумались и не заметили, как, вместе с праведным гневом, впустили в души свои грех злобы и тьмы. По слову Господа, о какой христианской любви к врагам нашим надо сегодня говорить, когда и братья и сестры наши, по грехам же нашим, далеки от этой главной Божьей заповеди? Мы погрязли в зависти, ненависти друг к другу и частых расколах. Мы погрязли в маловерии и даже погрязли в неверии.
И апостасный мир подхлёстывает нас, насмехается над нами и бешено кричит отовсюду: «ату их! Ату их! Ату!…».
«А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» [298].
Это слова Господа нашего.
Без искушения от врагов, как нам спасаться? На чём оттачивать меч свой духовный и с чьей помощью совершенствоваться и идти к Богу. Или мы уже покинули этот прародительский мир и блаженствуем в Царстве Небесном? Вы когда-нибудь задумывались над этим? Доколе мы будем жить только земными, а не вечными, Божьими мерками?
Зачем человеку монашество и для чего оно?
Трудные и интересные вопросы. И как бы я на них не отвечал, ответы всегда мне казались поверхностными и неполными.
«Монашество призвано сплачивать верующих людей в Духе Истины» - думалось мне – «и вместе со всей Церковью, призвано помогать людям на пути Богопознания и Обожения». Ибо и Господь наш, по слову святого Афанасия Великого: «стал Человеком, чтобы человек стал Богом». Смысл человеческой жизни в стяжании Духа Святаго – в единении с Богом, в Обожении. Разве не так? Другими словами - человек и создан для того, чтобы стать Богом по Благодати Его.
Святой Максим Исповедник учит, что в состоянии обожения, по благодати, то есть посредством Божественных энергий, мы можем обладать всем тем, чем обладает Бог по Своей природе, кроме тождества с Его природой. И что, становясь богами по благодати, мы остаёмся тварными, точно так же, как и Иисус Христос, став Человеком по воплощению, оставался Богом.
Ветхозаветное время дало миру много праведников и Божьих людей, но лишь только с Рождеством Христовым стало возможно и достижимо единение с Богом – Обожение. И нет такого места на земле, кроме Церкви Его, где человек познаёт Бога и соединяется с Ним в святом таинстве Евхаристии. Монашество, в образном его понимании, это Святая Святых Церкви Христовой.
Мы живём в тяжёлое, предантихристовое время. Живём во времена последних гражданских «свобод» и надежд. Но даже и в это время ещё много общего и много хорошего можно сказать о монашестве. Монашество, это постничество и отречение от мира. Это совместная братская и горячая молитва к Богу. Это послушание, целомудрие и нестяжание. Это кладезь истины Божьей. Это чистота и сила духа и веры. Остались ли сегодня хоть крупицы от былого монашеского благочестия и духовного величия? Есть ли всё это в наши окаянные дни? Есть! Хоть и мало чего уж осталось.
О монашестве последних дней ничего нового придумывать не надо. О нём нам поведали древние святые старцы. Тот же Антоний Великий сказал своим ученикам: «наступит некогда время, сыны возлюбленные, в которое монахи оставят пустыни и вместо них устремятся к богатейшим городам. Там, вместо вертепов и хижин, которыми усеяна пустыня, они воздвигнут, стараясь превзойти один другого, великолепные здания, сравнимые своей пышностью с царскими палатами.
Вместо нищеты вкрадется стремление к собиранию богатства, смирение сердца превратится в гордость. Многие будут напыщенны знанием, но чужды добрых дел, предписываемых знанием. Любовь иссякнет. Вместо воздержания явится угождение чреву, и многие из монахов озаботятся доставлением себе изысканных яств не менее мирян, от которых они будут отличаться только одеждой. Находясь посреди мира, они не постыдятся неправедно присваивать себе имя монахов и пустынников.
Не перестанут они величаться, говоря: «я — Павлов, я же, Аполлосов» — как будто вся сущность благочестия заключается в значении предшественников, как будто позволительно и справедливо хвалиться отцами, как хвалились иудеи предком своим Авраамом! Однако между монахами тех времен некоторые будут намного лучше и совершеннее нас, потому что блаженнее тот, «кто мог преступить — и не преступил и зло сотворить — и не сотворил», чем тот, который увлекается к добру примером многих добрых. Так Ной, Авраам и Лот, проводившие святую жизнь посреди нечестивых, справедливо прославляются Писанием» [299].
Святому Антонию Великому вторит и духоносный старец Исхирион. Святые отцы его как-то спросили: «что сделали мы?», он говорит: «мы сотворили заповеди Божии». Еще спросили: «следующие за нами сделают ли что-нибудь?» — «Они достигнут половины нашего дела». — «А после них что?» — «Не будут иметь дел совсем люди рода этого, придет же на них искушение, и оказавшиеся достойными в этом искушении будут выше нас и отцов наших» [300].
На далёких и теперь уже навсегда родных Северах, Господь открыл мне глаза и уши. Показал пример настоящей любви ко всему тварному миру, и зародил в душе её искорку. Мне потребовалось больше двадцати лет чистого времени, чтобы понять это и воспылать ответной любовью ко Господу и Его миротворению. Я прекрасно понимал и понимаю, что мне очень здорово повезло. Что Божья искорка не угасла, а выжила в апостасии этого мира и столь ярко и пламенно возгорелась.
Ни в чём не прегрешает так человек, как в мыслях своих. На пути к Богу, их труднее всего образумить и труднее всего приручить. Искушения и сомнения, зуд исследовательский и зуд мечтательский, фантазии и иллюзии, различные теории и философии – всё это и ещё много чего другого – с самого детства гнездится в нашем воспалённом мозгу.
Греховность мыслей - константа не постоянная. Она усугубляется многими побочными факторами; и неправославным воспитанием, и новой информационной политикой – зомбированием, и как следствие, модой на иноверие и сатанизм. Дабы разгрести все эти «завалы» и улицезреть путь к Богу – свою Божью дорожку, человеку необходимо просветление в мыслях – озарение и помощь Церкви Христовой. Хорошо, если при таком озарении, рядом окажется православный человек и поможет. А, если, нет, не окажется. Тогда, как быть? Потому и видим мы столь повальное шествие почти всего человечества в объятия дьявола и отца лжи.
Конечно же, я знал, зачем и куда я приехал. Ночами молиться мне никто не мешал. Однако дневные дела так изматывали и так истощали, что сил на моление большее почти не оставалось. Дела веры могут быть разными. Это так. И владыка Виктор меня легко убедил, что дела дневные ничем не хуже дел молитвенных и ночных. «Царство Мое не от мира сего» [301] - отвечал Иисус прокуратору Иудеи. Мы же, грешные, в мире сем. И только через мир этот пролегает наша дорога в Царство Его.
И мира сего не отринешься и не минуешь. Он для нас всё равно, что огнь - грехи попаляющий. Что ветер - отдувающий плевелы от зёрен. Здесь рождаемся мы, здесь и живём. Здесь конец нас земной ожидает. И только здесь, по милости Божьей, нам преподана участь стяжания от Духа Святаго – надежда на Царство Небесное и наше спасение.
С постригом опять затянулось.
Незаметно уже и осень минула. И зима с декабрём подступила. Монашеского Требника у владыки Виктора не оказалось. Пришлось посылать запросы в Америку. Каково же было наше удивление, когда нужная книга нашлась в Краснодаре. Получили мы ожидаемую посылку и из Америки. К постригу поспело целых два монашеских Требника. Несмотря на столь долгое ожидание, волнение меня не покинуло. В свою последнюю мирскую ночь, я долго выбирал имя святого.
Дамаскин, Мелхиседек, Ефрем, Арсений…
Кто из них мой?
Жребий бросать не хотелось. Остановился я на новосвященномученике Дамаскине (Цедрик) – епископе Стародубском (Глуховском). Одиннадцатого декабря 2003 года, в день памяти преподобного Даниила Столпника, владыка Виктор, с этим святым именем, меня и постриг. Сначала постриг в рясофор, а затем, постриг - в малую схиму (мантию).
Хорошо быть простым монахом!
Молишься себе потихоньку и смиренно делаешь, что тебе прикажут. А отвечаешь лишь за своё послушание и за себя.
После пострига моё послушание не изменилось.
Я продолжал выполнять те же самые обязанности, что и раньше, с той лишь разницей, что теперь на мне плотно сидело монашеское облачение. Прихожане быстро привыкли к новому имени. Большинство из них связывали его со святым Иоанном Дамаскиным [302], а не со святителем Дамаскиным (Цедрик). Святой Иоанн Дамаскин и, правда, казался многим известнее и святее. С мирской известностью так оно, пожалуй, и было, и есть, а вот со святостью - то не нашего ума дело.
После храмового праздника - Покрова Пресвятой Богородицы - в Славянск-на-Кубани зачастили паломники. Люди приходили и приезжали из разных городов и весей необъятной России. Иногда их скапливалось столько, что в комнате на втором этаже не хватало свободных кроватей. Приходилось укладываться на полу. Своим присутствием они меня не сильно стесняли. Хотя и вносили свои коррективы в складывающуюся послушническо-монашескую жизнь.
Усилившееся паломничество я связывал с изменившимся статусом владыки Виктора. При его, не столь давнем, викариатстве люди не слишком спешили знакомиться со Славянским архиереем. Став же правящим епископом, да ещё и самой крупной епархии РПЦЗ (В), владыка Виктор привлёк к себе более пристальное внимание членов РПЦЗ (В) и не только Её одной.
За короткий период времени, кого только и не побывало на втором этаже в «моей келье». И мирян, и монашествующих, и священников. Приезжали представители от приходов РПЦЗ (В) и разных других церковных юрисдикций, включая и просто «свободных» или праздношатающихся людей. Верующего народу побывало много. Это так. Но, почему-то, почти все они говорили на разных духовных языках. Вот, уж, воистину - новое вавилонское столпотворение!
Кто-то зациклился на метрических документах, признавая паспорт советский и отвергая нынешний. Кто-то восстал против индивидуально-налоговых номеров (ИНН) и штрих-кодов. Кто-то поставил во главу угла вопрос о святости царя-батюшки - Иоанна Грозного, патриарха Никона, Григория Распутина или даже Иосифа Сталина (!). Кому-то слишком понравилось староверие, а то и язычество. Кто-то рьяно спорил о свастике, германском фашизме и последней гражданской войне. Кому-то пришлось по сердцу имябожество и имяславие. Находились и такие паломники, кто пытался доказывать праведность и благодатность Московской патриархии или своей родной юрисдикции…
И так далее, и тому подобное.
Среди всех этих верующих и всё ещё чего-то ищущих у мира людей, встречались и психически больные, и откровенно бесноватые.
Я наслушался столько рассказов о «вещих» снах, различных видениях и «пророчествах», сколько не слышал за всю свою прошлую жизнь. И со всеми этими людьми надо было переговорить. Попытаться их переубедить. А затем накормить, уложить спать и утром отправить их восвояси. Владыка Виктор часто отмахивался от назойливых посетителей или же не всегда успевал, поэтому какая-то часть всей этой очень трудной и нудной работы благословлялась и мне.
Как-то, прибираясь в своей «келье», я случайно наткнулся на непонятную книжную стопку в бумажной упаковке, перевязанную магазинным шпагатом. Упаковка обнаружилась в самом дальнем углу «кельи», среди вороха мелких строительных материалов, каких-то детских поделок, ящиков со старой церковной рухлядью и прочими негодными предметами церковного обихода, оставшимися от прежнего домового храма. Когда я ножницами разрезал шпагат, а следом за ним и жёлтую упаковочную бумагу, то моему взору открылись новенькие книги - красивые свиду и очень большого формата.
Книг насчиталось штук семь или восемь. И все они оказались «Церковной историей» митрополита Московского и Коломенского - Макария (Булгакова).
О своей находке я тут же сообщил владыке Виктору.
- Можешь читать, - милостиво разрешил архиерей. – Эти книги пожертвовал один мой давний знакомый – бывший священник из Московской патриархии. Он хотя баламут и пьяница, но всё же не дурак. Я про них давно позабыл. Можешь их читать. Только не слишком-то увлекайся. Не зря их выпустили московские евреи. Если не ошибаюсь, там есть список благодетелей всего издания. И Лужков – Кацман [303] там главный. Посмотри. Потом мне напомнишь. Так это или я ошибаюсь?
Я открыл первый том шикарного издания и внимательно посмотрел на колонку попечительского совета. Точно. Среди множества известных и неизвестных фамилий, я увидел и фамилию мэра Москвы. Увидел. Но только без тире и без Кацман.
- Ну, вот, видишь, - оживился владыка Виктор. - Жиды, без своей выгоды и за просто так, ничего издавать не станут. Да, ещё и московские. Запомни это на всю оставшуюся жизнь. Кстати и «Великороссию» твоего любимого отца Льва, они тоже неспроста расхваливают на все лады и даже уже напечатали в интернете. На досуге подумай об этом.
Мне захотелось спросить: «а как же тогда быть с еврейскими пожертвованиями на храм и дарственной квартиркой?».
Хотелось.
Но я ни о чём его не спросил.
Новые знакомства ни к чему особенному меня не обязывали. Паломники приезжали и уезжали. Приходили и уходили. И лишь только некоторые из них возвращались с дороги обратно. Писало владыке не так много людей. Но всё же писало. Письма в храм приносили почти ежедневно. На большинство писем владыка отвечал сам. Реже благословлял отвечать на них мне. С собой я привёз электронную пишущую машинку. На этой машинке и писал я ответы. А после относил их на ближайшую почту. Почтой отправляли мы церковно-миссионерскую и другую литературу.
Её мы готовили сами.
В крестильной комнате стояла копировально-множительная машина. Владыка Виктор множил на ней свои статьи по расколам и статьи других авторов. При копировании, я обычно находился рядом. Помогал владыке, как мог. Принимал от него уже готовую продукцию и раскладывал листки по стопкам. Пытался и сам копировать. Но у меня это плохо получалось. Машина быстро нагревалась, а также имела другие особенности. Поэтому никак и не удавалось к ней приспособиться. Я только портил бумагу. И когда это явно затягивалось, владыка Виктор отгонял меня от «чудо-техники», и уже дальше продолжал сам начатое дело.
- Простые монахи мне не нужны, - как-то, сказал он на перерыве. – И плохие молитвенники тоже не нужны. А хорошими нам с тобой уже не стать. На следующей службе буду рукополагать тебя в диакона, - владыка умолк и почесал пальцем бороду. - А потом рукоположу и в пресвитера.
Слова архиерея удивили, а затем опечалили. Если меня и ставили раньше начальником, то почти всегда по случайности и против воли. То же самое теперь назревало в монашестве. За эти дни, я успел свыкнуться со своим положением. Можно сказать, что привыкнуть. И как мне казалось - не слишком плохо освоиться. Менять ничего не хотелось.
Отец Валерий предрекал скорое диаконство. Но, когда это было? О нём я давно позабыл, так ни разу не вспомнив. Ладно. Диаконство, ещё, куда бы ни шло. С ним, как-то, можно смириться. Если бы только, вслед за диаконством, владыка Виктор не упомянул о пресвитерстве. Пресвитерство, это уже другой расклад. Не говоря уже, что священник из меня никакой.
Видя непредвиденную задумчивость и озабоченность своего послушника, правящий архиерей постарался меня успокоить.
- Не забивай себе голову предстоящим. Меня тоже рукоположили не спрашивая. Не всю же жизнь мне одному бегать по Славянску.
- Рукоположите отца диакона Иоанна, - с надеждой попросил я владыку.
- Какой с него иерей? А, впрочем, рукоположу, но только позднее и уже после тебя. Мне виднее, кого первым рукополагать.
Я с ужасом представил последствия такого рукоположения. За первосвященство диакон Иоанн меня никогда не простит. Что же делать? Выйти из послушания владыки Виктора и уехать восвояси домой? Или же смириться со всем грядущим и отдать себя на волю Божью? Временем для размышления я располагал. Хотя временем и не очень большим. А не посоветоваться ли мне с отцом Валерием Рожновым? Интересно, что он присоветует? После ухода владыки Виктора, я так и поступил.
Открыл ключом храм и долго пытался дозвониться до своего друга. Однако сколько я ни звонил, на том конце провода трубку так никто и не взял. Что ж, значит, на то воля Божья. Я опустил свои руки и со страхом Божьим стал дожидаться первого воскресения.
И всё же, проблемы – проблемами, а владыку Виктора я понимал.
С нашими рукоположениями [304] он надеялся высвободить часть драгоценного времени. Оно требовалось ему не только на написание новых богословских работ и церковно-публицистических статей. Худо-бедно, все эти будущие работы и статьи могли ещё подождать. Время требовалось архиерею для других дел. И, прежде всего, для предстоящих поездок по обширной епархии. Эти поездки давно назревали. Пастыри и прихожане ожидали владыку. И откладывать их дальше не имело никакого смысла.
К тому же, уже шла подготовка к первому епархиальному совещанию в Алексине. И требовался срочный архипастырский приезд в Вятку и Коми благочиние.
Осенью я познакомился с родным сыном владыки Виктора. Каждый его приезд в Славянск-на-Кубани сильно нервировал и огорчал владыку. Сын временно работал у фермера, но, в общем-то, работать он нигде не хотел. Всё время строил какие-то фантастические планы, клянчил у отца приходские деньги и жил всё больше иллюзиями, чем реалиями. В последний свой приезд, он просился на перемену места жительства. В сельской местности проживать ему уже надоело.
Захотелось пожить в этом городе.
Как человеку спастись? Вот вопрос вопросов. И много ли возможностей или праведных путей для спасения человека?
Можно спасаться горячей молитвой и строгим постом. Господь и Сам всё время постился и молился до кровавого пота. И разве это не Богоугодное дело? Мы знаем множество примеров такого пути и спасения человеков. И я желал такого ж пути. Однако владыка Виктор предложил мне несколько иной путь спасения. Ему думалось, что борьба с жидо-масонской властью и оккупацией – сегодня и есть - самое наибогоугоднейшее, наипервейшее и наиспасительнейшее дело. А горячая молитва и строгий пост – монашеское делание - их никто не отменял и они, хотя и, безусловно, важны для верующего человека, но, всё же, не это сегодня главное. Главное – борьба с жидо-масонской властью и оккупацией.
В пользу предложенной спасительности им приводились примеры святых Сергиевых схимников - Пересвета и Осляби. Осадная борьба монахов Троице-Сергиевой лавры с поляками. Пламенный призыв к русским людям (против тех же самых поляков) святого патриарха Ермогена. Убедительные и духоносные слова, и дела против советской богоборческой власти святых новомучеников и исповедников Российских…
И в самом деле, что можно возразить против этого?
По владыке Виктору выходило, что гарантию святости и такой веры, как у святого Иакова Постника нам никто не давал и теперь уж не даст. Грехов-то у нас много, а дел очень мало. Отсюда и сомнения в том, что молись, не молись и сколько не поднимай руки к Богу и сколько Его не упрашивай и не проси, а спасительный дождь, всё равно, не прольётся и не пойдёт.
Была бы такая святость и такая вера, как у святого Иакова Постника, мы бы жили праведней и нынешнего позора не знали. Кто-нибудь из русских духоносных богатырей поднял бы свой взор на Небо и вся эта жидо-масонская тёмная нечисть, в один миг исчезла бы и испарилась.
Где же у нас нынче такие богатыри? Что-то не видно в округе. Не слыхано. Никак перевелись все. Вот и получается, что же лучше?
Или нам так и дальше всё сидеть сиднями по куреням и хатам. Молча, и тихо молиться, ожидая манны духовной от милости Божьей. Или же поднимать убогий и ветхий, но всё ещё русский народишко. Поднимать на последний свой подвиг, на священную со тьмою войну. Что Церковь должна нам сказать? И как узнать Промысел Божий? И что милее Ему? Владыка Виктор ответы, похоже, узнал. А вот от кого их узнал? О том я тогда ещё не задумывался. Жизнь церковная меня захватила. И на сомнения и анализ времени не оставалось. Я еле-еле успевал учиться и исполнять послушания.
Родненькие мои!
Грешен я перед Богом и вами!
Грешен тем, и другим, и сто крат осуждением. Мысли, что дикие кони по зелёному полю. Попробуй накинуть узду. Бегают так, что и в узде не удержишь. И трудно их приручить и объездить. Иной раз, только-только подумаешь, а глядишь - уже всё - осудил. Пускай и ненароком. А осудил. И тут же, в этот самый грех и впадёшь. А не впадёшь, так с ямой рядом пройдёшься.
Не осуждайте и не судите, детушки, брата своего во Христе!
То - Божье дело - судить, а не наше.
Во чтеца и диакона меня рукоположили в день памяти священномученика Елевферия - епископа Иллирийского и матери его – святой мученицы Анфии. Случилось сие событие пятнадцатого декабря, спустя ровно трое суток после монашеского пострига. А на праздник Обрезания Господня, в день памяти святителя Василия Великого - архиепископа Кесарии Каподакийской [305], владыка Виктор рукоположил меня во пресвитерский сан. Вот и сподобил меня Господь стать иеромонахом Его Церкви.
Пресвитерская хиротония дважды откладывалась. В первом случае, владыка Виктор о ней позабыл, а я ему не напомнил. Подумал, что пусть всё идёт своим чередом. И что Богу виднее. Во второй раз, владыка сам её отложил, ссылаясь на не очень праздничный день. Рукоположил только с третьего захода. В этот день в храм и, правда, пришло очень много людей.
Рукоположение вышло праздничным и торжественным.
К моему удивлению, отец диакон Иоанн явного недовольства не высказал. Радовался моему иеромонашеству вместе со всеми. И чего я от него уж совсем не ожидал – поздравил с рукоположением и даже первым подошёл под благословение.
Сам-то я ещё не успел отойти и от диаконской хиротонии. Не успел привыкнуть и как следует, научиться диаконскому служению. А тут сразу такой ответственный и тяжёлый крест «свалился» на плечи. Душа благодатно трепетала, а сердце и мысли переполнились великой ответственностью перед Богом и людьми. От непомерной тяжести и близкого отчаяния спасала Иисусова молитва, помощь и любовь окружающих. Потребовалось значительное время, чтобы освоиться и хотя бы немного привыкнуть.
Положенных по церковному уставу учебно-служебных «сорокоустов» у нас [306], как правило, не бывает. Да и сами рукоположения, чаще всего, происходят без должной кандидатской подготовки. То есть по острой архиерейской [307] или же приходской нужде. Поэтому служебные и требные знания приобретаются и «шлифуются» нашими клириками не за высокими монастырскими стенами, как, к примеру, в Московской патриархии, а сразу на приходской практике. Учимся мы вне духовных учебных заведений - училищ, семинарий и академий. Их у нас попросту нет. Учимся у своих старших клириков. Получаем от них безценный духовный опыт по церковно-исторической цепочке [308] и по традиции. Учимся по толкованиям святых Отцов Церкви. Учимся ответственно и постоянно. И результат такого обучения не заставляет себя ожидать.
Из своей пастырской, а затем и архипастырской служебной практики я сделал вывод, что, даже и по служебно-требной форме, мы нисколько не уступаем клирикам Московской патриархии. А по вере и духу, на порядок их превосходим. Превосходим и своей духовной чистотой, и трепетностью. Пастырско-человеческим благочестием. И неподдельной любовью, и страхом Божьим.
Говорю не обо всех, а о многих.
Безблагодатность Московской патриархии видно издалека. И видно довольно отчётливо. И кто хочет видеть её, и желает спасения, а не чего-то другого – тот это видит и невооружённым глазом. То есть без наводящих подсказок и миссионерских объяснений.
Моё пастырское послушание позволило владыке Виктору высвободить время для епархиального окормления и написания новых статей. Он разделил поровну требы. И если бы не его застаревшие комплексы, то он мог бы и совсем отказаться от них. Однако переубедить его невозможно. Правящий архиерей продолжал совершать в Славянске требы. Ему казалось, что в этом ничего худого или зазорного нет. Так-то оно так. Впрочем, его архиерейство от этого и, правда, похоже, ничуть не страдало.
Требные службы я очень быстро освоил.
- Теперь только ты будешь младенцев крестить, - после одного из крещений, сказал мне владыка Виктор. – У тебя хорошо получается. А я боюсь их крестить. Один священник из Московской патриархии рассказывал, как он утопил одного младенца. Вот, с тех пор и боюсь.
- А если, не дай Бог, я утоплю?
- Не утопишь. Я же вижу, что не утопишь.
Крестить так, крестить. Помимо крещений, хватало и других треб. С утра и до вечера я мотался по городу, казачьим станицам и хуторам. Труднее у меня получалось со Всенощной службой и Литургией. Особенно никак не мог запомнить, какой на Утрени сейчас поётся канон. И то ли говорить мне после очередной песни: «паки и паки» [309], то ли ещё повременить.
Ближе к концу января, владыка Виктор стал всё чаще упоминать о предстоящем епархиальном собрании. Его проведение планировалось в городе Алексине, что в Тульской области. И оно должно было состояться на приходе иеромонаха Тихона (Козушина). В связи с этим, моего архиерея что-то всё время тревожило и не давало покоя. Я его состояние видел.
Но не мог понять, от чего оно и почему.
- Всё же, придётся поставить Козушина на Московское благочиние, - в один из поздних вечеров, владыка открыл мне первопричину.
- Он же еврей!
- Сам знаю, что еврей. А кого прикажешь поставить? Кроме Козушина поставить там некого. Правда, есть у них ещё отец Валерий Лапковский [310]. Только он и на священника не больно похож. Тот ещё типчик. Как католик бреется и кажется, тоже из полужидов. Дед у него ещё комиссарил на Юге.
- Так зачем же такого ставить?
- Ставить кого-то надо. А вот, кого? Это и, верно, сложный вопрос. Над ним теперь и ломаю голову.
- Поставьте иеромонаха Тихона (Козушина) временно исполняющим обязанности благочинного. Тогда отпадёт и вопрос о Московском благочинном.
Владыка посмотрел на меня с особенным интересом, как будто что-то увидел впервые. Потом отвёл глаза в сторону и по давней привычке, расчесал пальцем бороду.
- А, что. Это, пожалуй, идея. Так я и поступлю, - промолвил он утвердительно. - На собрание я поеду с диаконом Иоанном. А ты останешься вместо меня на приходе. В помощники рукоположу тебе отца Феодосия. Скучать вам здесь не придётся, - архиерей сделал паузу и о чём-то, ещё раз задумался. - Не волнуйся, с Божьей помощью, справитесь. А в Алексине долго мы не задержимся.
Дела свои сделаем и сразу вернёмся домой.
Я не волновался.
Но, после ухода владыки и сам хорошо призадумался.
Схимонах Феодосий (Боровский) перешёл в РПЦЗ (В) в середине кубанской осени. За эти месяцы я узнал его предостаточно. Он частенько навещал наш Славянский приход и епархиального архиерея. Владыке Виктору схимник вначале понравился.
Отцу Феодосию едва перевалило за тридцать. Выглядел он ничуть не старше своих лет. Однако, зачем-то, играл многолетнего старца. При этом, усердно кого-то копируя. Скверно и плохо играл. То и дело, покашливал и сильно сутулился. Будто старец предревний – тягуче, со смыслом - слова говорил. Сам среднего роста. С белесого цвета глазами. Рыхлобородый и уже с огромной пролысиной. В своей неизменной бараньей кубанке смотрелся схимонах по-казацки.
И как-то, на схимника не очень тянул.
Хотя и заметно старался.
Проживал он на старом и почти совсем заброшенном хуторе, недалеко от курортной Анапы. Будучи ещё насельником Санаксарского мужского монастыря, а затем Плащанской пустыни и некоторых других монастырей Московской патриархии, с его же слов, чего он только там не навидался и не натерпелся от монашеского и игуменского произвола.
Произвола того схимонах не таил.
Отец Феодосий мог часами рассказывать о своей прошлой монастырской жизни. О Санаксарском «старце» Иерониме. О блуде и попойках монашествующих. О частом рукоприкладстве и всежидовском засилии. И о многом, о многом другом. Рассказывал он всё это и мне. И слушал я его с интересом. Последние полтора года отец Феодосий провёл в строящемся монастыре посёлка Горный, что по дороге на Новороссийск. Этот монастырь патриархия строила уже довольно давно и строила она его на том самом месте, где когда-то подвизался святой Феодосий Иерусалимский или Кавказский [311].
Как известно, святой Феодосий Кавказский прославился многими чудесами и стойким исповедничеством. Сергиан он на дух не переносил. Никогда их церковью не признавал. И в храмы их ногой не ступал. Однако патриархию это нисколько не волновало. Неиссякаемый поток паломников, а так пуще того - их немалые деньги, вынуждал патриархию строиться и расширяться. Только вот что-то строительство уж больно затягивалось. О нём я, как-то и спросил у отца Феодосия.
- А настоятель - игумен Филарет и не спешит его строить, - ответил отец Феодосий.
- Почему? – удивился я.
- Филарет - не из самых глупых монахов. Да и прораб он опытный. В мирской и монашеской жизни всякого навидался. Поэтому хорошо понимает, что, как только он закончит строительство, так сразу же Исидор [312] его тихо прогонит. А настоятелем поставит близкого к себе человека. Место в посёлке Горном доходное и на него многие давно зарятся. Вот и выходит, зачем ему торопиться с этим строительством? Деньги и продукты в монастырь поступают исправно. А большего от жизни ему ничего и не надо?
Так-то, вот.
- И что, Исидор не знает о его политике?
- Знает. Исидора Филарет умело подкармливает. Каждую седмицу отвозит ему машину продуктов и немалые деньги. Сколько денег отвозит – того я точно не знаю. А вот продукты и сам помогал нагружать. Всё деликатесы. Плохое питание Исидору не повезёшь.
- Откуда у него эти деликатесы?
- Как откуда? Жертвуют многие, - и, глядя на моё всё ещё продолжающееся вопросительное недоумение, отец Феодосий охотно пояснил. - Жертвуют рыболовецкие предприятия, продовольственные цеха и фабрики. Богатые хозяйства и фермеры. Да и мало ли ещё кто. Жертвуют не самые бедные люди. В монастырь поступало столько продукции, что нам и самим вволю хватало, и Исидору. Исидора я хорошо знаю. Мы с ним давние знакомые. Лет восемь прошло от знакомства. И в прошлом году он меня к себе вызывал. Всё упрашивал рукоположиться и посылал учиться в Ставропольскую семинарию.
- И ты отказался.
- Не совсем отказался. Попросил его отложить рукоположение. А в семинарию ту съездил и посмотрел. Семинария мне не понравилась.
- Интересно. И чем же?
- Узнал, что за каждый экзамен там надо платить по сто или двести долларов. А, откуда у меня американские деньги, когда и русских-то нетути? Съездил, посмотрел и назад возвернулся. Позднее, услышал о Зарубежной Церкви. Стал искать. И в городе этом нашёл.
Всем неплох был отец Феодосий. Только вот одна беда - не терпел он любого учения и никаких замечаний. Даже при самом пустяшном замечании или совсем уж невинной подсказке, схимник мгновенно вспыхивал и так сильно гневался, что становилось просто невмоготу находиться с ним рядом. Того и гляди, гнева не стерпит и бросится на тебя с кулаками.
Болезненная психика отца Феодосия наводила на определённые размышления.
По церковно-славянски читал он отвратительно. Скорее, читал по-хохлацки, чем по церковно-славянски. А его вычурная, а временами, прямо-таки, показательная неграмотность - мне казалась просто чудовищной. По своей слабой памяти, а так больше всего, по упрямству, не знал он, ни треб, ни храмовых Богослужений. И всё бы ничего, все мы вышли не из академий, если бы отец Феодосий не слишком упорствовал, а, с Божьей помощью, потихоньку учился. Куда там. Учиться он не желал и даже не думал о том. Владыка Виктор всё это прекрасно видел. Поэтому я ему ничего не сказал.
Да и что тут скажешь?
Когда архиерею оно, явно, виднее.
Моё скорое иеромонашество не прошло незаметно.
Оно удивило и обрадовало отца Валерия Рожнова [313]. Не поверив вначале слухам, он справился у секретаря Архиерейского Синода - отца Вениамина Жукова. И только, получив авторитетное подтверждение, запоздало поздравил. Конечно же, на наши отношения это нисколько не повлияло. Они оставались стабильно дружескими и по-прежнему, братскими. Хотя, кое-что в нём мне стало очень сильно не нравиться. Особенно не нравилось упорное дублирование своих электронных писем. Напишет корреспонденту письмо и тут же отошлёт его по многим рассылкам. Как же: «смотрите, мол, все, какой я правильный и разумный батюшка!». Эта его привычка часто ставила пишущих людей в неудобное положение. После столь наглядных и совсем уж непонятных рассылок не хотелось ему больше писать.
Поздравил меня и родитель. Его поздравительное письмо стало настоящим откровением, а то и открытием. Отец писал, что никогда не отрицал существование Бога. О том, что всё ещё хорошо помнит, как в детстве ходил вместе с моим дедушкой в церковь. Как прилежно в храме молился, и от страха и радости плакал. Поздравляя с принятием высокого сана, он в конце письма слёзно каялся и просил прощение за все прошлые свои грехи и упрёки. Это родительское послание меня растрогало и взволновало до глубины души. И я долго его в бумагах хранил. Но потом, как водится, потерял. Потерял в постоянной служебной суете и частых своих переездах. Лишь только в памяти и сердце оно и осталось.
Требная практика, с каждым днём, расширялась. За первые две седмицы я успел обойти и объездить почти весь город и многие окрестные станицы и хутора. Всего больше приходилось отпевать покойников. Освящать машины, дома и квартиры.
Владыка с утра служил Панихиду. После же лёгкого завтрака и я приступал к своим требным обязанностям. Начинались они с крещения младенцев. После них, крестил и взрослых людей. Младенцев я погружал в широком и глубоком тазике. А взрослых - в бочке из нержавеющей стали. Для полного погружения взрослого человека ёмкости бочки хватало.
Вскоре, я повенчал свою первую брачную пару. И из всех треб, мне оставалось исполнить соборование, исповедование и причастие на дому. Оставшиеся требы исполнял владыка Виктор. Попросить их себе, или же пойти с ним вместе к болящим людям, тогда в голову мне не пришло.
О чём, позднее, я пожалел.
Требное служение, хотя, иной раз и очень утомительно, однако весьма полезно и необходимо молодому священнику. При священническом становлении, его значение просто невозможно переоценить. Оно укрепляет молодого священника в вере. С невероятной быстротой ломает преграды в отношениях с мирскими людьми. Прибавляет смелости и уверенности. Углубляет и расширяет границы мистического мышления и сознания. И вместе с храмовыми Богослужениями, способствует проявлению дара Богопознания, дара любви и пастырско-отеческого чувства.
Без обретения всех этих качеств - священнослужение невозможно.
А сколько требы открывают священнику житейских явлений и тайн. К примеру, чего только я не наслушался и не навидался. Особенно при освящении домов и квартир. О том множестве вам не поведать и не рассказать. Маловеры или же просто любители чудес, походив вместе со мной, пусть и малое время, раскаялись, укрепились и уверовали бы в одночасье.
Да и как не раскаяться, и не уверовать при столь явном и таком очевидном.
Когда, после исповеди и причастия, безнадёжно больной и покинутый врачами человек - выздоравливает. Когда в доме и прямо на твоих глазах, невидимый бес с шумом выбрасывает из шкафа посуду. А после уничтожения магических и оккультных книг и освящения дома, бес убегает и больше не появляется. Когда у коровы неожиданно появляется горькое и зловонное молоко, а после молитвы - молоко снова становится вкусным и парным. Когда дом или квартиру невозможно продать, а после освящения – сразу же всё быстро и легко продаётся. А сколько случаев с освящёнными автомобилями…
Прости меня, Господи, за многословие.
На приходе люди очень меня полюбили. Я их тоже всей душой полюбил. Наши отношения ревность пока не вызывали. Ревность появилась потом.
И я с лихвою познал её горечь.
Перед скорым отъездом владыки, дни на приходе проходили в тревожных хлопотах – бумажной и преддорожной суете. Владыка собирался в Алексине кого-то рукополагать, поэтому захватил с собой и Чиновник архиерейского священнослужения. Все эти дни он видимо нервничал и волновался. Его состояние понятно и объяснимо. Владыке предстояло впервые увидеть всех священников и авторитетных мирян Южно-Российской епархии. И не только увидеть и как бы, очно и заново перезнакомиться, но и самому хотелось видней показаться в высоком епископском сане и должности правящего архиерея.
Немощен и слаб человек. А от такой-то крестной тяжести и громадной ответственности, ещё и не так, занервничаешь и заволнуешься.
Но не одно это его волновало.
Епископ Виктор, не хуже меня (или кого-то другого), помнил, что на Руси встречают новых людей по одёжке. Одёжка-то, одёжкой. Тут, уж, какая ни есть. Да и как того ни желай, а себе свежую обнову - уже не сошьёшь и не скроешь. Не об одёжке его терзали волнения. Все волнения лежали в иной - психологической плоскости. Образно говоря, моему архиерею хотелось поймать и удержать в руках не только доступную всеми «синицу», но и «небесного», и малодоступного «журавля». То есть получить от предстоящего визита - ни много, ни мало - а всё. Хотелось, чтобы и епархиальное собрание завершилось знаково и успешно. И проводили его, как уж водится, с архиерейскими почестями, а главное - по уму.
Вот с умом-то или, вернее, с мудростью и выходила загвоздочка.
Владыка Виктор, почему-то, считал единственным мерилом своей архиерейской мудрости не совокупность богоугодных архипастырских дел, а количество опубликованных богословских и церковно-публицистических книг и статей. Оттого и архиерейская молитва, церковное строительство и ещё многое, и многое другое, отводилось им на второй, а то и на более дальний план. Только свои опубликованные работы он и считал тем основным богоугодным архипастырским делом, тем краеугольным камнем, на котором и сожиждется, ни много, ни мало, как само будущее воскрешение новой Руси [314].
По архиерейскому замыслу, большинство работ ему ещё только предстояло написать. Не всё так просто вырисовывалось и с их публикацией.
Авторской горечи и пессимизма у владыки хватало.
Своего интернетного сайта епархия не имела. Открытие электронного узла упиралось в отсутствие ответственного специалиста. Сам компьютер уже в крестилке стоял. И владыка его, пусть и со скрипом, но всё же осваивал. Однако перспективы радужными ему не казались. Отсутствие епархиальной информационной площадки почти полностью хоронило его идею и ужасно портило настроение.
Публиковаться владыке Виктору приходилось на электронных страницах православно-монархического портала «Меч и Трость». Этот информационный портал редактировал и издавал [315] видный московский писатель, и член РПЦЗ (В) – Владимир Георгиевич Черкасов – Георгиевский.
Владимира Георгиевича хорошо помнил и я.
Мы познакомились с ним ещё в конце девяностых годов в Амосовке, на приходе у отца Валерия Рожнова. И познакомились не сами по себе или, как бы, случайно, а по настоятельной инициативе и благословению батюшки – отца Валерия.
Высокий и свиду уже не столь молодой, но с задорным и изучающе-пронзительным взглядом, матёрый московский писатель мне надолго запомнился. Приглянулась и его верная спутница жизни, и супруга Ирина Афанасьевна. Ирина приглянулась своей притягательной женственностью, неподдельной скромностью и русской неписаной красотой.
На одного только Черкасова - Георгиевского и возлагались владыкой надежды. Кроме информационного портала «Меч и Трость» публиковаться ему было негде. «Меч и Трость», вскоре и стал тем краеугольным камнем, на котором и сожижделось, к большому сожалению - не желанное начало воскрешения новой Руси, а всего лишь - славное бренное время.
Время – славы земной, человеческой.
А потому и славы пустой, и сомнительной.
Но это случилось позднее. Случилось потом. И происходило сие событие без моего прямого участия, влияния и душеприглядства.
После отъезда владыки, на приходе ничего особенного не произошло. Всё продолжало идти своим прежним, обыденным чередом. И с Божьей помощью, а так же с помощью отца Феодосия и любвеобильных прихожан, мне удавалось справляться с временным настоятельством.
Как ни странно, но отсутствие архиерея быстро избавило нас от излишней нервозности. Оно привнесло душевное умиротворение и намного упрочило служебно-деловое спокойствие. Требно-служебное рвение уводило от всего праздного и пустого. А полная занятость, вкупе с пламенным монашеским молением, отогнала многие греховные и непотребные мысли.
Иеросхидиакон Феодосий, как мог, помогал. С диаконом намного легче служить. И он усердно старался. Зная его характерные особенности, я ни в чём ему не перечил и ничему его не учил. Так мы и прослужили с ним мирно, до самого приезда владыки.
С возвращением же правящего архиерея меня ожидало уже совсем иное и совершенно неожиданное послушание. Оно зародилось не здесь, а в Алексине. Настоятелю Воронежского прихода - протоиерею Иоанну Крамаренко срочно потребовался второй священник.
По благословению владыки Виктора, мне и предстояло им стать.
+ + +
И всё же, детушки мои дорогие, прежде чем приступить к дальнейшему повествованию, поведаю вам об одном удивительном и чудесном случае (ни на какие выводы не претендующим), произошедшем со мною на второй день, после отъезда владыки. Признаюсь, не вдруг и далеко не сразу, решился я на эту публичную исповедь. Решение сие не такое простое. Сомнения и сейчас ещё мучают душу, и будоражат мысли. С Божьей помощью, всё же, поведаю. И как было тогда, по порядку я всё расскажу.
А вы уж прочтите, подумайте и не обезсудьте.
На второй день, после отъезда владыки, в храм приехал молодой человек и попросил меня поисповедовать и причастить его очень больную и уже умирающую мать – рабу Божью Надежду. Исповедь и причащение умирающего человека для священника – дело святое. И Божественная Литургия прекращается для него. Понимая это прекрасно, начал я торопливо собираться в дорогу. Положил в старую требную сумку: Евангелие, Требник, дароносицу, распятие, облачение, свечечки, лжицу, воду святую, вино. Всё нашёл. И всё положил. А вот Святые Дары, никак, найти не могу.
Где только я Их не искал.
И на Престоле, и на Жертвеннике и в сумке владыки…
Нет нигде! И всё тут. Что же делать? А время не ждёт. Человек умирает! И умирает без исповеди и причастия по моей нерадивости, а то и смертной вине. Что же делать? Как быть? Молодой человек уже дважды справлялся. Совесть замучила. И я грешный поник, растерялся. «Почему же я не спросил о Дарах владыку Виктора?» - терзал сердце и душу запоздалый вопрос.
«Господи! Помоги!» - прокричала душа.
Господь смиловался и помог.
В алтаре я налил полную дароносную Чашу вина. Стал перед Горним местом на колени. И Всемогущему Богу сердечно, и слёзно взмолился.
«Господи! Прости и помилуй меня окаянного! По Твоей великой любви прошу Тебя! Умоляю! Ты можешь всё! Человек без Тебя умирает! Помоги моему пастырскому невежеству и неумению! Претвори вино сие виноградное в Кровь Твою Всесвятую!».
И вот тут, родненькие мои и произошло то великое чудо, от которого мысленно, всё ещё, содрогаюсь и душой трепещу.
На моих глазах, вино за секунду загустело и покрылось тоненькой кровяной плёночкой. Претворение хлеба и вина в Тело и Кровь Христову происходит на Божественной Литургии, при таинстве Евхаристии, во время евхаристического канона. И только. Однако в дароносной малюсенькой Чаше я видел не вино уже, а Христову претворенную Кровь.
С Ней и поехал к страдалице.
Исповедал и причастил.
Возвращаясь назад, сын обречённо обмолвился, что если мать его вскоре умрёт, то он приедет за мной отпевать. После, Богу и владыке я каялся. И о Надежде справлялся. В ответ услышал, что из нашего храма её никто не отпевал…
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. На катакомбном приходе
Всего насмотрелся я в суетные дни мои: праведник гибнет в праведности своей; нечестивый живет долго в нечестии своем.
(Книга Екклесиаста или Проповедника. 7:15).
В свои суетные и мирские дни, в Воронеже мне приходилось бывать. Правда, проездом и очень, и очень давно. Знавал я этот город больше по книгам и по людям святым. Как-то, Бог миловал и в лихое советское время, ни один из областных центров центрально-чернозёмной зоны не переименовывался. Все города остались при своих законных, родовых именах. Воронеж негласно считался столицей ЦЧО. И трудно сказать, почему? Может быть, из-за лучше развитой военной и гражданской промышленности и как следствие, большего населения. А может быть и по другой причине.
От Воронежской древности в памяти почти ничего не осталось. А четыреста или пятьсот лет времени, это не срок для губернского города Российской Империи. Своей историей Воронеж прославился немного позднее. Он стал чаще упоминаться в реформаторскую эпоху Петра Великого. Именно здесь Православный Император заложил основу флота Российского. И на какое-то время, Воронеж являлся форпостом южной политики Петра I. Тихий Дон огибает город с юго-западной стороны. И он достаточно широк и глубок. Отсюда и начинались знаменитые Петровские походы на Азов, и в другие места. Со святой воронежской земли шло интенсивное освоение Юга и позднее, всего Северного Кавказа.
В наше время развелось много критиков политики Петра I. Впрочем и раньше её с избытком хватало. Сильная и властная личность Императора Петра Алексеевича и дела его славные, не оставляли и не оставляют места для равнодушия. И спустя триста лет, не утихают словесные и постраничные баталии о том громком времени. Наслушаешься и начитаешься тех «научных» фактов и аргументаций от спорящих сторон, и голова пойдёт кругом. Невоцерковлённому человеку очень сложно определить истину. Порой, кажется, что правы все. До чего же, умно и хитро спорят.
Убеждён, что русский православный человек должен смотреть на Императора Петра Алексеевича и его самодержные дела глазами святого святителя нашего - Митрофания Воронежского.
Иные же взгляды - все от лукавого!
В Воронеж я приехал пассажирским поездом Новороссийск – Москва. Числа теперь уж не помню. Помню, что на первый день Великого Поста. От железнодорожного вокзала и до нового места послушания я добрался на такси. С трудом, но добрался. Таксист никак не мог найти указанного адреса. Храм «спрятался» недалеко от набережной Воронежского «моря». И значился по адресу - улицы Песчаной I. От набережной эта улица поднималась круто вверх и через сотню метров упиралась в отвесный обрыв. Если бы не православный храм и пара - тройка ветхих домов, то её и улицей-то назвать бы нельзя. По ландшафтному виду она походила больше на овраг или глубокую и широкую промоину.
Сам храм «пришвартовался» с левой стороны улицы и со стороны «морской» набережной, он здорово смахивал на старинный Петровский корабль. Разве, что без парусов и не из дерева, а из камня [316]. От бетонно-блочного забора и каменного храма веяло приятной древней надёжностью. И это меня удивило. Так как, от отца Валерия знал, что храм совсем недавно построен.
Пройдя через «катакомбный» лабиринт навесов и поворотов, я очутился перед парадным крыльцом, умело сработанным из листового железа. Перед крыльцом я остановился и чутче прислушался. Сквозь закрытые двери храма доносилось протяжное церковное пение. Стучать в дверь мне показалось не с руки. Первый день Великого Поста. Люди молятся. Мешать им не стал. Не долго раздумывая, я завернул за угол храма и вошёл в него через боковой вход. Скорее всего, им здесь и пользовались. В коридорной полутемноте я тут же наткнулся на какие-то мешки. Мешки, не то, с картошкой, не то, с мукой. В нос легонько ударило сырой затхлостью, гниющими овощами и ещё кислой капустой.
Подвинув дорожную сумку ближе к стенке, я начал искать выходы в храм. И вскоре их обнаружил. Прежде чем показаться отцу-настоятелю и его прихожанам, впотьмах переоблачился. Надел монашескую мантию и чёрный клобук.
В таком виде я и поднялся в притвор.
Признаюсь, никогда не считал (и не считаю) себя эстетом, ценителем или же специалистом православной храмовой архитектуры. Хотя и повидал великое множество храмов. И древних построек, и совсем молодых. Русь ещё не окончательно растратила свою изумительную храмовую старину и не до конца истощилась народными умельцами. Есть ещё, что потрогать, послушать и повидать. Конечно же, всё новое, это не то, что прошлое. И дух уже не тот, и большинство строительных технологий безвозвратно утеряно. А от того и качество строительства (реставрации) - на порядок, а то и на два - ниже.
С церковного притвора моему взору открылся весь внутренний вид храма. Открылось его настоящее лицо и убранство. При очевидной скудности церковного облачения и позолот, а так же отсутствия, каких бы то ни было, мозаик и украшений, храм, всё же, дышал намоленностью и теплом. Это чувствовалось. И всё остальное уже не имело никакого значения.
На подсвечниках и паникадиле ярко горели свечи. Теплились лампадки у образов. И в воздухе хорошо пахло ладаном, и свежим воском.
Ближе к амвону плотно стояли пожилые люди со свечками. А по средине, у аналоя возвышался и сам батюшка-настоятель. «Помилуй мя, Боже, помилуй мя» - доносилось до моих ушей и души. В храме начинался читать Великий Покаянный Канон святого Андрея Критского. Молились в основном женщины. Но, присмотревшись внимательней, заметил и нескольких молодых людей.
Оставаться дольше в притворе не имело смысла. Перекрестившись и набравшись храбрости, я начал двигаться вглубь. Монашеское облачение производило должное впечатление. Люди передо мной расступались, давая проход к отцу-настоятелю.
К нему я и направлялся.
- Ты, кто? – едва слышно прошептал мне на ухо отец Иоанн.
- Иеромонах Дамаскин, - так же тихо ответил я настоятелю. И следом, ему пояснил. – От владыки Виктора из Славянска-на-Кубани.
Отец Иоанн удовлетворённо кивнул головой.
- Помоги мне читать канон. На сегодня, я уже очень устал. А читать ещё долго.
Так, по очереди, мы стали читать с ним Покаянный Канон святого Андрея. Я сразу же приноровился к клиросу и поющим прихожанам.
И молитва пошла у нас легче и задушевнее.
После окончания молитвы, я передал отцу Иоанну бумагу от владыки Виктора. В бумаге говорилось о моём назначении на Воронежский приход вторым священником. Настоятель о чём-то спросил. Я смиренно ответил. Ко мне начали подходить люди под благословение. Жизнь вступала в свою пастырскую колею. Мне показали мою келью и принесли дорожную сумку.
Первое знакомство закончилось.
В первую постовую седмицу отец-настоятель ввёл на приходе очень жёсткие правила. Меня то удивило, что трое суток, от начала поста, отец Иоанн благословил от пищи ничего не вкушать и ни грамма не пить даже воду. Прихожане должны были только молиться и почти что не спать. Я не помнил, как там и что там положено по Уставу, но, в сравнении со Славянским приходом, такие порядки мне показались драконовскими. Посудите сами, подросток Лёша- пономарь, буквально, ходил по пятам отца Иоанна и слёзно просил его отеческого благословения, хоть немножко водицы испить.
Как известно, со своим уставом в чужие монастыри не ходят. И хотя этот «монастырь» становился уже и моим, однако отцу-настоятелю я ни в чём не перечил. Всю седмицу мы усердно постились, молились. Дни походили один на другой. И всё же, эти первые трое суток, свободных от пищи насущной и от воды, мне, почему-то, сильнее запомнились.
Каюсь!
В последнюю ночь, такого сухого поста, я не выдержал. Как-то, забылся и с удовольствием напился холодной водички.
Отслужив первую седмицу Великого Поста, отец Иоанн, по-братски, со мной распрощался и укатил далеко на восток, в город Новосибирск. Я же остался один на приходе. И всё бы ничего. С Божьей помощью, глядишь бы и сдюжил. Если бы, за эту седмицу, отец-настоятель не успел «разругаться» [317] с приходским регентом и уставщиком - иноком Диодором (Пашенцевым). Скандал возник после того, как протоиерей Иоанн Крамаренко отказался читать на Божественной Литургии молитву - «О спасении России». За этот отказ, инок Диодор обвинил его в антимонархизме и демонстративно покинул клирос. Проще говоря, протоиерей Иоанн уехал, а весь приход и я остались без регента и уставщика.
Как я ни молил и ни упрашивал инока Диодора, на клиросе он так и не появился. Тут следует пояснить вам, детушки и немного обширнее поведать о самом иноке Диодоре. Спрос с этого человека небольшой. Ибо, карликом он на свет народился. Постоянно и тяжко болел. И переносил все тяготы своего больного, малого и бренного тела с христианским смирением и очень, и очень достойно.
Лет десять он подвизался в храмах Московской патриархии. Вволю насмотревшись там отступлений и всяческого непристойства, кинулся инок искать правды Божьей на стороне. Случилось это прозрение с ним в конце восьмидесятых годов прошлого века. И если помните, тогда многие верующие люди из Московской патриархии, пошли по такому ж пути. Искал Диодор правду не один. Куда ему одному, по своей-то немощи. Искал Диодор Церковь Божью вместе с инокиней Агафоникой. И после долгих мытарств и скитаний, Церковь Божью они разыскали, то есть нашли.
Не иначе, как по Божескому промыслу, оказались они в Русской Православной Церкви Заграницей. Инок Диодор и инокиня Агафоника. Кто же знал, о грядущих и скорых расколах! Да, хоть бы и знали, всё равно, деваться-то некуда.
Скорбям и болезням вопреки, иноку Диодору удалось приобрести не только знания церковно-уставного характера, но и знания общецерковные. Помимо набожности и намоленности, выделялся он ещё и приличной начитанностью, умением анализировать, те ли иные, события и как следствие, убеждать оппонента. Его келья примыкала к моей, и после мы часто сходились с ним в богословских баталиях. Тому поспособствовал и его неожиданный переход к расколоначальнику – ныне покойному - Лавру. Снабжал он меня и интересными книгами из своей личной библиотечки.
Служить без клироса невозможно.
Делать нечего.
Пришлось бить челом владыке Виктору и просить у него регента – Татьяну. Владыка Виктор откликнулся и вскорости, регент приехала.
Воронежский приход слыл катакомбным. Многие его прихожане, от роду и по наследству от своих родителей, никогда не признавали Московскую патриархию за церковь. В советское время они молились тайком от властей, катакомбно. До лаврского раскола, в одном только городе Воронеже насчитывалось около тысячи таких исповедников.
После же раскола, люди разбрелись по разным церковным юрисдикциям. Кто подался к грекам. Меньшее число согласилось с Лавром. Другие примкнули к лазаревской РИПЦе. Некоторые ушли в МП. Имелись и такие люди, кто, вообще, во всём разочаровался и ушёл в безбожество. Мои же «новые» прихожане остались верными митрополиту Виталию (Устинову).
С приездом регента душа почти успокоилась. На постовых седмицах я служил две или три Литургии. И каждый Божий день - Панихиды, Молебны и другие требы. Дважды отслужил чин Елеосвящения или Соборования. Знаний и пастырского опыта не хватало. Их нехватка остро мной ощущалась. Правда, протоиерей Иоанн немного успел меня подучить и в храмовых службах я уже не так сильно терялся, как раньше. Хотя, всё ещё и допускал невольные промахи и ошибки.
Катакомбный приход, от Славянского, отличался ещё и тем, что некоторые его старые прихожане знали церковные службы лучше меня. Без году неделя священства. Неопытность. Вполне понятно моё отставание. И всё бы ничего. Если бы только каждая служебная ошибка не комментировалась и громогласно не исправлялась. Поначалу меня это очень сильно смущало и повергало в глубокий стыд. Выкрики в храме мешали служению. Пришлось особо ревнительных дедушек и бабушек попросить поумерить свой пыл. И если уж подсказывать, то подсказывать до службы или, в крайнем случае, после неё. Слава Богу, я быстро учился и со временем, уже никто и ничего не подсказывал.
Сложности убавлялись.
Но не так быстро, как хотелось бы.
Просфоры выпекала благочестивая и аккуратная прихожанка Анкулина. Она же продавала и свечи, с любовью отлитые иноком Диодором [318]. Со свечами вначале случился конфуз. Перед началом Литургии, ни о чём, не подозревая, я взял у Анкулины двадцать две больших свечи и поставил их на паникадило. Отслужил, с Божьей помощью, Литургию. И собрался, было, уже идти в свою келью отдыхать. Как подходит ко мне сестра во Христе Анкулина и тихим голосом говорит.
- Батюшка, а вы не забыли, что должны в кассу сто семьдесят два рубля.
- За что? – спросил я удивлённо.
- Вы брали свечи, а деньги в кассу не положили.
- Я же поставил их на паникадило.
- Ну и что.
- И что, я теперь при каждой службе должен платить вам за свечи?
- Да. У нас такой порядок, - спокойно ответила Анкулина.
- Но у меня, ведь, нет денег. И откуда они появятся?
- Этого я не знаю.
«Что же делать?» - подумалось мне – «ну и порядочки». Неожиданно меня осенило.
- А куда вы деваете вырученные деньги? – спросил я уже с интересом.
- Покупаю муку на просфоры и плачу за свечи иноку Диодору. А все оставшиеся деньги отдаю отцу-настоятелю Иоанну.
- Так, поступайте так и дальше. Отца-настоятеля нет. Поэтому деньги отдавайте временно мне. А из них я уже буду вам платить за паникадильные свечи. Так вас устроит?
- Устроит, - согласилась со мною просфорница.
Свободных денег в кассе оставалось немного. И всё же, их оставалось достаточно. Хватало и на паникадильные свечи, и на налоговые выплаты, и на продукты питания. Свечи Диодор отливал большого стандарта. Храму он продавал по четыре рубля за свечку. А храм продавал прихожанам по восемь. В патриархийных воронежских храмах подобные свечи стоили вполовину дороже. Не говоря уже об их качестве. Качеством они отличались в худшую сторону.
В жертвенной кружке обретались мною копейки. Оно и понятно. С мизерной стариковской пенсии большие рубли не пожертвуешь.
Великим Постом в храме молилось много людей, хотя и заметно меньше, чем в Славянске-на-Кубани. Как известно, катакомбность предрасполагает не только к скрытности, но и своего рода, избирательности. Отсюда и духовная подозрительность, и человеческая осторожность. В миллионном городе о православном зарубежном приходе почти ничего не знали, а то и вовсе не слышали. Что говорить об остальных, если и рядом живущие жители считали нас сектой, раскольниками или даже баптистами.
Служить приходилось здесь чаще. И служил я теперь не «по-славянски», не «по-кубански», а с катакомбным «налётом» или «душком». То есть более чинно, без спешки, трепетно и размеренно. Несмотря на частые храмовые службы, свободного времени оставалось достаточно. Треб в городе почти никаких, а Молебны и Панихиды – дело не слишком и долгое.
Прихожане тоже видимо отличались. Отличались и годами, и отсутствием всяческой светскости. Великим Постом в Воронеж приезжали из разных городов и весей. И не только по Воронежской области. Здесь я познакомился с паломниками из Саратовской, Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Брянской, Харьковской и некоторых других областей.
Многие из них не имели никаких проездных документов. И без них добирались по-разному. Кто на поезде, на автобусе. А кто и просто пришёл в город пешком. Молитва в пути у людей теплилась и не угасала. Для большинства «ходоков», великопостное говение ожидалось, как великий праздник. Как блаженное удаление от мирской суеты и почти полное очищение от грехов.
И готовились они к говению не сегодня и не вчера, а ещё с прошлой Пасхи.
От этих смиреннейших православных христиан веяло, какой-то, особой покорностью, русскостью и святоотечностью. Веяло любовью и человеческой теплотой. Свиду они казались совершенно незащищёнными от апостасного мира. Одним своим присутствием, если угодно, наличием, эти люди заставляли меня удивляться, и разводить в стороны руками. В их чудосохранность не очень-то верилось. И всё же, вот они! Предо мною! Такие живые! И всё ещё есть!
Многого чего они порассказали. Оказывается, есть в России целые хутора и деревни безпаспортников. Советская власть их помучила, помучила, а потом, взяла и отстала. Будто махнула костлявой рукой: «а, ну вас, живите, как сами хотите». Божьи люди от такой властной «щедрости» не растерялись. И раньше-то жили по-христиански, а не по-советски.
А теперь-то…
Слава Богу, не пропали. И до сего дня живут с Божьей помощью. Живут по правде-старинке. Душа в сыть и молитвой питается, а всё остальное – по милости Божьей. Да - от трудов своих праведных. Пашут землицу. Держат птицу, скотинку. И живут себе горя не знаючи, и псалмы припеваючи. Им я, чем-то, понравился. Приглашали к себе отцом-батюшкой.
До самого Светлого Христова Воскресения, я так надеялся на приезд отца-настоятеля. Пасхальная служба мной ещё не служилась. Оттого и оторопь немножко брала. Вот и надеялся на помощь опытного отца-настоятеля. Напрасно надеялся.
Отец Иоанн на посту задержался [319].
Подсказать особенно некому. Если бы не инок Диодор, спаси его, Господи, то не знаю, чем бы всё и закончилось. Вместе с Диодором мы несколько раз разобрали всю Пасхальную службу. Знания и уверенность появились. Но одно дело – теория и совсем другое – служебная практика. Волнения и сомнения всё ещё оставались. И исчезли они лишь после великого Праздника.
За две седмицы до Пасхи, мой регент Татьяна уехала. Но приход без регента и поющего клироса не остался. Вместо Татьяны, Господь послал нам Валентину (Шахтинскую) [320]. Валентина долго и тяжко болела, потому я её не знал и не видел. Эта стойкая женщина меня очень порадовала, и удивила. Она проживала на глухом казачьем хуторе в Волгоградской области. Эти несколько сот километров до храма её сильно изматывали. Тут и молодому человеку, такой дороги и дали не выдержать. А свет - Валентиночка наша - выдерживала. На плохую дорогу и болячки не сетовала. На жизнь тяжкую, не роптала. И в Божий храм добиралась ко времени, и на каждую службу. С открытым русским лицом. С чудесной косой до самой земли. Она пела на клиросе так, что дух мой захватывало. И кажется, вместе с душой уносило на небо. Пела она чудно. Пела неслыханно. Да и службу вела не с учёностью, а по данному от Бога таланту.
С нею и певчими, с Ангелами и прихожанами, мы и встретили Светлое Христово Воскресение – Пасху Господню.
Храм наполнился верующими людьми. Среди них выделялось несколько человек и в разной казачьей форме. В казачьих чинах я не особенно-то разбираюсь. Но в полковничьем разобрался. После, с тем полковником мы познакомились. Им оказался казак по фамилии Болотин. Держался он очень почтительно, всячески подчёркивая своё уважение к духовному сану.
Моя первая пасхальная служба прошла изумительно. Прошла на высочайшем духовном подъёме. «Христос Воскресе!» - с великой и торжественной радостью, вещал я с солеи и амвона, а так же при частом каждении храма. «Воистину Воскресе!» - с такой же ответной радостью подтверждали сию непреложную Истину православные христиане.
До пяти часов утра звучали в храме эти святые слова. И все мы – Божьи дети - радовались встрече Светлого Христова Воскресения. Утром, как водится - разговелись. Пасха в душе продолжалась и дальше. И Её свет всё горел, горел…
На Светлой седмице я и познакомился с казачьим полковником Болотиным, и всеми остальными воронежскими казаками нашего прихода. И не только нашего. О современных казаках и современном казачестве есть смысл сказать особо и сказать шире. Как вы заметили, говоря на эту тему, автор ни одного слова не взял в кавычки. За что меня часто сегодня ругают. И всё же, я продолжаю считать не своего ума делом по поводу казачьей легитимности, правильности производства и тому подобное.
Как архипастыря, меня волнуют и интересуют совсем другие казачьи аспекты. Чистота веры этих людей. Их отношение к нынешней власти. С каких позиций они смотрят на наше историческое прошлое [321]. И что они хотят иметь от грядущего времени. В вопросах казачества новичком я себя не считал. Ибо, к воронежскому периоду времени, уже имел опыт общения с кубанскими казаками.
Опыт воронежского общения (а, забегая вперёд и опыт московского общения) лишь усилил, а затем и подтвердил правильность моих первоначальных выводов. Если говорить о вере, то у казаков она настолько гипертрофированна, настолько изменена и искажена, что считать их истинно православными христианами было бы серьёзнейшей ошибкой и глубочайшим заблуждением.
Опять же, речь не обо всех, а о многих.
На фоне показной ненависти к жидам и жидовству, некоторые из казаков, будто совсем выжили из ума и дожились до полного отрицания Ветхого Завета. Считая Ветхозаветные Книги Священного Писания не неотрывной частью христианского вероучения, а чисто жидовской верой, привнесённой в Россию извне. И привнесённой не просто так, по случайности или ради простого любопытства, а не иначе, как специально, то есть с определёнными и далеко идущими антирусскими целями.
По этим же причинам, отдельные казачествующие лица пошли ещё дальше. Они додумались, ни много, ни мало, как до признания славянского языческого вероучения. И додумались не шутки ради, а для вполне серьёзного построения на нём современной жизненной философии. Язычество киевских великих князей Олега Вещего и Святослава Игоревича они связали с победами над войсками Византийской империи и уничтожением Хазарского каганата. Поставили его во главу угла. И возвели в ранг непререкаемого теологического авторитета (примера), на котором, якобы и должна строиться жизнь современной и будущей России.
Кто-то остался в староверии и часто, в его безпоповских и осектантившихся формах. Большинство - признают Московскую патриархию. Реже - Зарубежную Церковь или те юрисдикции, взявшие от Неё своё начало или же начало от Церкви Катакомбной. Все остальные казаки, вообще, запутались в вере. И спроси их о ней, они и сами себе не ответят, како веруют.
Церковное веростояние - определяет отношение казачества к нынешней власти. Можно сказать и наоборот. Отношение к нынешней власти - определяет их церковное веростояние. Во властном же смысле, объединяет казачество одно – стремление оторвать от властей, как можно больше лакомых кусков и кусочков. И совсем неважно, что это будут за подачки; землица ли, брошенные и полуразграбленные производства, ветхие общественные здания, пропуск в мелкий бизнес…
Сумев создать иерархическую структуру, а следом за ней и выстроить, пусть и шаткую, но, всё же, полувоенную организацию, казачество предстало определённой общественной силой. С этой силой власть вынуждена сегодня считаться. Она и считается, ввиде шутовского заигрывания; восхваления в СМИ, шумных банкетных приёмов, пустых награждений и прочих незначительных услуг и мелких подачек. Боясь, всего и вся, а, также насмехаясь и глумясь над славной казачьей историей, власть пошла ещё дальше. Она не только прикормила казачьих авторитетов и атаманов, но многих из них, сама же назначила.
И в большинстве своём, назначила не из тех, кто наиболее правильно мыслит и верует [322], а из жидовствующих, а то и прямых потомков евреев.
К историческому и традиционному прошлому у казаков, примерно, такое же отношение, как и к вере. В головах и умах перемешано столько всего, что и писать о том затруднительно. При царе-батюшке казачество служило Царю и Отечеству. В связи с этим, возникает вполне уместный вопрос. Если существует сегодня казачество, то, кому оно служит? Царя нет. Отечество уже не в опасности, а, по факту и сути своей, выброшено на свалку истории. Власть в руках у жидов и поджидков. Тогда, кому и какому отечеству служит казачество? И что оно хочет от грядущего времени?
С последним вопросом возникает ещё один виток разномыслия. Однако по православному и этот виток мыслей сложиться не может. Почему? Да, потому, что невоцерковлённость не даёт им прочной основы для понимания и исповедания Истины.
В казачестве теперь много говорят о царе [323]. Но, вот о каком царе идёт речь? Это ещё, тот (и отнюдь не праздный) вопрос. Чаще всего, говорят, вообще, о царе. То есть о любом царе, и царстве любом и абстрактном. И совсем необязательно говорят, о царе-батюшке православном. Хотя, есть упоминания и о нём. Как же, не без крохоток истины…
Можно ещё долго писать о казачестве, и писать в, том же самом, аналитическом и критическом смысле или ключе. К сожалению, казачество (как и многие другие русские люди) не понимает, что без благословения Церкви – все, даже благие, мысли и дела – пусты и никчменны. Прошу понять меня правильно, я не отделяю казачество от общества всего остального.
«Выделяю» – так сказать будет правильней.
И всё же, чтобы мы ни говорили или ни писали критического, и отрицательного о казачестве и казаках, следует признать, что на фоне всеобщего отпадения от Церкви Христовой, духовного упадка и почти полного людского безразличия, казачество - на сегодня - является, всё ещё, полуживой духовной и вполне плотяной человеческой тканью. Признавая это, мы признаём и надежду на возрождение русского былого казачества. И как следствие, верим в воскрешение в казачьих умах и сердцах Православной Веры, Православного Императора и Православной Российской Империи.
Российская Православная Церковь готова помочь любому человеку обрести Истину и взойти на Корабль Спасения. В том числе, помочь тем, кто считает себя казаком. Покаянное воцерковление, по милости Божьей, даст нам возможность воскрешения попранной в 1917 году справедливости. Для того мы, в частности, тоже живём, дышим воздухом и существуем на этой грешной земле.
От воронежских приходских казаков я многое чего почерпнул и узнал. Они открыли мне глаза на разномножество современного казачества. Рассказали о тех общественных событиях, которые происходили или, всё ещё, происходят в городе. О крестных ходах. О своей борьбе за исторические места и названия. Эти люди поведали мне о казачьей и личной жизни, о текущих делах.
Их жизнь и дела меня заинтересовали и увлекли. Видя мой неподдельный интерес к ним, они стали чаще приходить в храм и больше молиться. Предложили, в дополнение к храмовым службам, служить ещё и молебен с акафистом святому Царю-мученику Николаю. Я подумал: - «а, почему бы и нет?» И с радостью согласился на их предложение. Так, после воскресной Литургии, мы начали вместе молиться Богу и просить перед Ним заступничества у святого Царя-мученика Николая.
Вскоре, о воскресных молебнах узнали и другие прихожане. Они попросились в них поучаствовать. Монархисты, русские националисты и просто желающие помолиться. Дискуссий или спокойных полемических разговоров у нас не получилось. Слишком разные люди сошлись по характеру и мировоззрению. Но это и не такая большая беда. Слава Богу, за всё!
А характер и разномыслие молиться нам не мешали.
Посещали храм и прихожане из других церковных юрисдикций. Особенно те из них, кто ещё совсем недавно молился в единой Зарубежной Церкви. Память их мучила. И душа всё просилась обратно. Впрочем, прошлое кровоточило и мучило всех.
Зачастили к иноку Диодору и иереи - Вадим Пахомов из Курска, и Олег Миронов из Воронежа. Иерея Вадима Пахомова я помнил ещё по мирскому прошлому. Окончив Курский медицинский институт, он работал где-то в Курске врачом. И вместе с другими врачами окормлялся на Троицком приходе отца Льва Лебедева. Несколько раз, я видел его и на службах в Амосовке. Но ничто большее тогда нас не связывало. Разве что общее кандидатство на рукоположение.
Наши пути разошлись.
И пока я мытарился в поисках духовных поводырей, а потом годами читал Псалтирь по покойникам, Вадима Пахомова быстренько рукоположили и направили в помощь к отцу Иоанну Крамаренко. Год он с Курска поездил и здесь послужил. Но, вскоре, дороги клирик не выдержал [324] и покинул Воронеж. И если бы только Воронеж. После расколов, отец Вадим отвёрг и сам факт существования Русской Поместной Церкви, перейдя в один из Синодов греческой юрисдикции. Однако приход и город Воронеж он не забыл. Проведывал инока Диодора, и помнил всех прихожан.
В отличие от отца Вадима, иерея Олега Миронова мне раньше видеть не доводилось. Хотя и что-то слышал о нём. Более полную информацию предоставил отец Валерий Рожнов. Рукоположенник архиепископа Лавра (Шкурло), отец Олег, какое-то время, начальствовал на строящемся в Москве подворье РПЦЗ. Ясно, что на такую должность совсем уж случайного человека не поставят. По своей греховности, я полагал, что не зря сей батюшка в таком фаворе. И как оказалось, ошибочно полагал. К Лавру отец Олег не пошёл. А, так же, как и иерей Вадим, и многие другие священники, переметнулся к вездесущим грекам. Работал он в одном из вузов города, совмещая пастырское служение с преподаванием.
Столь подробный рассказ о Вадиме Пахомове и Олеге Миронове не случаен. Именно, от них я узнал о спорных статьях владыки Виктора. И именно, с ними у меня завязалась серьёзная полемика по их содержанию и защите автора. Обличал работы владыки, в основном, отец Вадим. Отец же Олег занял более осторожную и умеренную позицию. Инок Диодор вначале поддерживал сторону отца Вадима. Но после того как батюшка обнаружил себя убеждённым антимонархистом, инок к нему охладел, потерял интерес и стал чутче прислушиваться к моему мнению или же к мнению отца Олега.
Следует сказать, что наша полемика не выходила за рамки приличия и нетерпимости. Каждый старался строить аргументацию очень корректно и уважительно, нисколько не ущемляя человеческое достоинство, как автора, так и своего оппонента. По своей халатной безпечности и наивности, я тогда не думал и не предполагал, что наши полемические беседы, это, своего рода, прелюдия или разведка «боем» перед грядущими богословскими и иного рода, баталиями.
И они не заставили себя долго ожидать.
После возвращения из Сибири настоятеля - протоиерея Иоанна, и отпразднования Святой Троицы, наш храм посетила [325] солидная делегация «русских греков», во главе с иереем Александром Павпертовым. Все лица были знакомые. С отцом Александром мы познакомились лет пять тому назад. И познакомились у, всё того же, отца Валерия Рожнова, в Курской области. Он с отличием закончил Московскую духовную академию. Образованием заметно кичился, и всячески его подчёркивал и выставлял напоказ. Он-то и являлся идейным вдохновителем, и организатором непризнания РПЦЗ (В), и перехода в Синод греческой юрисдикции (если не ошибаюсь, Синода митрополита Калинника) значительного количества священников и прихожан Курско-Белгородского, и Воронежского благочиний РПЦЗ.
Об Александре Павпертове я долго распространяться не хочу и не стану. Скажу только, что это тот самый человек, который, без спросу, читал мои письма к отцу Валерию Рожнову. И именно, его же, за невоспитанность (если не хамство) «вытурил» из Парижа отец Вениамин Жуков.
Помимо отцов: Александра, Вадима и Олега в «греческую» делегацию вошёл и иеромонах Амвросий (Посохов) из Белгорода. Иеромонах Амвросий прославился тем, что ещё в свою бытность секретарём Белгородской епархии Московской патриархии, демонстративно и прилюдно отказался от столь высокой и хлебной должности, перейдя в РПЦЗ.
А произошло это так.
Любитель застолий и известный в Черноземье, выпивоха - епископ Иоанн (Попов) [326], на одном из очередных банкетных излияний, попросил своего непьющего иеромонаха - секретаря выпить стакан водки за его архипастырское здоровье. Иеромонах Амвросий (Посохов) долго всё отнёкивался и уклонялся от просьбы правящего архиерея. И какое-то время, ему удавалось избегать ненавистного водочного стакана. Но, вскоре, епископ Иоанн (Попов) изрядно подпил, и в сильном подпитии, стал всё громче и громче настаивать, и даже приказывать молодому иеромонаху выпить водку.
Выпить водку и всё тут.
Люди начали обращать внимание на пьяное и капризное приставание епископа к иеромонаху, не до конца понимая первопричину. Назревал скандал. Отцу Амвросию ничего не оставалось делать, как подняться со своего места, взять стакан с водкой в руку и под внимание многочисленных слушателей и слушательниц, произнести следующий (ставшим потом притчей во языцех) тост.
- Ваше Преосвященство! Вам и мне известно, что послушание превыше даже поста и молитвы. Так и быть, по послушанию я выпью эту злосчастную водку. Но прежде, чем выпить, вам и всему присутствующему здесь люду, скажу - знай я заранее, что вы такой дурак и пьяница – никогда бы не согласился на священническое рукоположение и эту треклятую должность.
Отец Амвросий опрокинул водку в рот и покинул банкет. Покинул своего правящего архиерея. А немного позднее, ушёл и из Московской патриархии.
Вот, такая, по составу и духу, «греческая» делегации посетила наш храм.
Цель посещения ясна и понятна. Она обозначилась после первых же вступительных слов. Люди не просто пришли в гости, а пришли вербовать нас в свою юрисдикцию. И поскольку моё сопротивление получилось конкретным, на меня они и набросились.
Положение осложнилось ещё и тем, что на «греческую» сторону легко перешёл Диодор. Протоиерей же Иоанн, своим упорным молчанием, тоже им поспособствовал. И, по сути, я оказался со всеми один на один. Слава Богу, что един Господь - не бросил и не покинул меня окаянного! Без помощи Господа, не знал бы, что молвить и как дальше мне быть.
Представьте себе!
Все люди образованные. А некоторые даже с фундаментальным богословским образованием и с выверенной логикой мышления. С большой полемической практикой. В конце, концов – со своей демагогией. И все против меня одного – вчерашнего деревенского увальня и недотёпы. Тяжеловато пришлось мне от них отбиваться. И если бы не владыкины ляпсусы и недочёты…
Господи! Сколько же их у него!?
Особенно злорадствовал и брызжал слюной отец Александр Павпертов. Он сидел со мной рядом на старом потёртом диване. И всё ёрзал на нём туда и сюда. От усердия и чрезмерного напряжения «греческий» клирик вспотел. В животе у него что-то булькало и громко урчало. Однако начинающееся расстройство желудочно-кишечного тракта, похоже, ему совсем не мешало «сверхумно» обличать. Он с сатанинской силой набрасывался, то на мои слова, то на владыкины опусы.
Мне стало понятно, что, предостерегая владыку Виктора от попыток нежелательных публикаций, я тогда весьма смутно представлял всю их пагубность и опасность. Теперь же в полной мере ощутил и пагубность, и опасность. Да ещё и на собственной шкуре.
А сколько всего ещё впереди?
Наш спор продолжался не менее часа. И проходил он рано утром, перед началом Божественной Литургии. Перед службой не спорить, а молиться нужно. Мы же – всё в спорах и таком раздражении. С Божьей помощью, я натиск отбил и полемику выдержал. Спора тяжёлого не проиграл. Но очень сильно расстроился. Не хотелось даже и в Алтарь заходить. Особенно ввергло в искушение пассивное поведение отца Иоанна. После Литургии, состоялся с ним откровенный разговор. Он заверил меня в полной своей поддержке и лояльности к владыке Виктору. Пришлось поверить отцу-настоятелю. Хотя в душе и зародилось сомнение. Я почувствовал, что настоятель не твёрдо стоит на ногах и позднее, всякое может случиться.
Отношения с отцом Иоанном у меня не слишком заладились. Пока он разъезжал по Сибири и весям, большая часть прихожан «притулилась» ко мне. В этом нет ничего удивительного. Когда на приходе служат два священника, так, чаще всего и случается. И как ни старайся, и как не учи, а всё одно не получается у нас нужного понимания и вразумления. До нас никак не доходит, что мы всего лишь «Павлы» и «Аполлосы». И не больше того. Пусть «Павел» и насадил, а «Аполлос» только поливал.
Но возрастил-то Бог.
Нового я ничего не придумал. И отсебятины здесь нет никакой. Пример взят из послания Первоверховного апостола Павла: - «ибо когда один говорит: «я Павлов», а другой: «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а (все) Бог возращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно; но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, (а) вы Божия нива, Божие строение» [327].
Видит Бог, нет моей в том вины. И не «прилеплял» я к себе никого. Более того, старался стать на нейтральное, а то и на самое незавидное, и незаметное место. Старался отодвинуть от себя подальше наиболее «любвеобильных» и назойливых прихожан. Любимчиков на приходе я не имел. Ведь, прихожане, что дети. А дети все одинаковы и равны для родного отца. Но отцу-то настоятелю, очевидно, доложили иное. А тут ещё и явное неприятие протоиереем Иоанном Православного Самодержавия, и Православного Царя. Катакомбная закваска и советское воспитание начисто «выветрили» из него эти святые понятия.
Упёртость его, меня поражала.
Обычно он тему «мудро» замалчивал. То есть просто недовольно сопел и молчал. Но, однажды, сразу после Литургии, отец Иоанн позволил себе отрицательно высказаться против царской власти и против царя.
Я не выдержал и тихо сказал.
- Отец, Иоанн. В этом месте я с вами спорить не буду. Только знайте, священник – не монархист – не достоин стоять у Престола в Алтаре, - протоиерей Иоанн густо покраснел. Он стоял, как раз у Престола в Алтаре. - Это не мои слова. Знаете, кто их сказал?
Настоятель обречённо спросил.
- Кто?
- Святой митрополит Владимир (Богоявленский).
После подобного вразумления, он стал гораздо внимательней прислушиваться к монархистам. И стал больше уделять внимание монархической теме. Отец Иоанн – человек очень хороший. И пастырь опытный, и весьма показательный. Однако и не без странных причуд. На приходе он долго не задержался. Отслужил со мной несколько служб.
И укатил обратно на свои «восвояси».
К середине лета я уже полностью освоился на приходе. В самом городе бывал редко. Все мои городские походы, как правило, устремлялись в одном направлении и заканчивались на рынке, что прямо рядом с воронежским цирком. Там я покупал живую рыбу, свежую капусту, зелень и реже, другие продукты. А так, почти всё время находился в храме. В келье очень много читал. И келейно молился. Прочитал стенографический отчёт Поместного Собора 1917 – 1918 годов.
Когда читал эти толстые тома, не поверите - плакал.
Речи соборян и решения Поместного Собора показались мне дикими и совсем неуместными. Посудите сами, когда Царь с Семьёй томился в жидовском узилище и вся страна стремительно падала в пропасть, почтенные иерархи и иже с ними, строили несбыточные маниловские прожекты и занимались пустым словоблудием. Прошу прощения, но по-другому не скажешь. Страха ради иудейска, не один из епископов даже не заикнулся о Помазаннике Божьем и Его Семье.
Прочтение стенографических отчётов, указов и постановлений патриарха Тихона, заставило оглянуться назад и серьёзно призадуматься. Осмысление полученной информации, вкупе с прошлыми знаниями и размышлениями, затем и легло в основу формирования православного мировоззрения по отступлениям 1917 года. До этого момента, я, как и многие другие люди, почти не задумывался о первопричинах наших поражений. Мы говорили, писали и думали о чём угодно, но только не о первопричинах.
Сегодня мне приписывают, будто бы я не отдаю себе отчёта и полностью не понимаю, что не один только февраль1917 года лежит в их истоках. Конечно же, истоки наших поражений имеют более глубокие и более древние корни. И лежат они в разных плоскостях. Это я хорошо понимаю. И всё же, один только февраль стал тем видимым моментом истины - корнем преткновения - от которого и взяло начало апостасийное время. В чём же наша вина? Мы об этом сказали. И сегодня напомнили. Да и как не напомнить, когда от признания февральской истины отмахнулись целые русские поколения [328].
Публикации владыки Виктора мимо меня не проходили. Люди приносили их пачками в храм. Указывали, тыкая пальцами в «еретические» места. И задавали множество трудных вопросов. «Греки» тоже одним спором и днём не отделались. Продолжали всё наведываться к иноку Диодору и сеять смуту в умах прихожан. В один из летних вечеров, я не выдержал и позвонил отцу Валерию Рожнову. Позвонил ему не случайно или не от нечего делать. Мой друг утвердился на должности Курско-Воронежского благочинного и теперь оказался в моих непосредственных начальниках.
Если в Славянске-на-Кубани надо мной возвышался только один начальник – владыка Виктор, то в Воронеже до владыки Виктора - уже далеко. Священническая иерархия выстроилась по длинной цепочке. Вначале - протоиерей Иоанн, затем - отец Валерий. И только потом уже - правящий архиерей. Конечно же, по доброй и старой памяти, можно было миновать все цепочные «звенья» и непосредственно выйти на владыку Виктора. Мешать, ничего не мешало.
Но армейская привычка взяла своё.
У отца Иоанна телефон, как правило, не работал. После нескольких безуспешных попыток к нему дозвониться, я эту затею отбросил и долго не думая, позвонил отцу Валерию Рожнову. Мой друг оказался дома. Он и поднял телефонную трубку. Не теряя времени даром, я, с первых же слов, высказал своё возмущение содержанием публикаций нашего правящего архиерея и вкратце, обрисовал положение на приходе. Отец Валерий меня внимательно выслушал, но по теме ничего не ответил. Сославшись на её конфиденциальность, благословил приехать в Амосовку.
Мне и самому хотелось повидаться со старым другом, с матушкой Лидией и их сыночком Мишей. Поэтому, без лишних раздумий и колебаний, я засобирался в дорогу. Взял билет на автобус до Курска. И уже через несколько часов очутился в любимом городе.
В Амосовке мы о многом переговорили.
Правда, говорил, всё больше, мой студенческий друг. После трапезы, он слушать не очень-то любит. И ещё сильнее не любит молчать. Говорит, как и водится, сам. Говорит помногу, без роздыха и остановки. С ним такое часто случается. Можно даже назвать – обычным явлением. Если разговорится, то и слова живого в серёдку не вставишь. При монологе, с упоением закатывает кверху глаза, упиваясь своим красноречием. Тако же и на этот раз. Со слухом, всё в полном порядке.
Делать нечего…
Слушаю, не перебивая.
И без удивления узнаю, что не только одному мне публикации владыки Виктора встали, что называется, поперёк горла. Что, будто бы и в Париже проявляют к ним не менее сильное недовольство. А раз так, то следует всем потерпеть. Ибо, сколь верёвочке не виться, а - всё одно – в ней есть конец. Тако же, мол и с литературными причудами владыки Виктора.
Мой друг не пожадничал. Приоткрыл тайную завесу «парижской кухни» и откровенно поведал о грядущей церковной политике. Ссылаясь на духовную близость к секретарю Архиерейского Синода РПЦЗ (В), а, стало быть, и на наибольшую осведомлённость, он озвучил некий стратегический план. О плане том, не грех бы и умолчать. Дело прошлое и назад уже ничего не воротишь. С чистым сердцем я бы так и поступил. Не отводись в этом плане и мне не последнее место.
- Мы долго думали и размышляли, как корректно и без лишнего шума, остановить разбушевавшегося не на шутку владыку, - начал глаголать батюшка. – После долгих раздумий и консультаций, решили учредить на территории Европейской России ещё одну нашу епархию. Даже и не учредить, а просто вывести её из вдовствующего состояния. При этом, как можно больше отрезать от владыки Виктора его канонической территории. Оставить ему один Краснодарский край и пусть себе пишет статьи на здоровье. Тогда на его вирши не так пристально станут обращать внимание, как обращают сегодня.
Этот разговор отец Валерий затеял в машине. Плотно покушав, мы куда-то с ним сразу поехали. И теперь уже не помню, куда.
Не дождавшись «излишних» вопросов, он гутарить продолжил.
- Ты очень быстро вошёл в курс церковных событий. Даже и я не ожидал. Такой прыти позавидовать можно. Очень раз за тебя. Помнишь, у пруда я говорил тебе о твоём скором епископстве. Так вот, пришло время им стать. Ты сегодня проходишь единственной кандидатурой на должность правящего архиерея. Тебе придётся ещё многому научиться. И ты, несомненно, научишься. Да и мы поможем.
У меня едва не вырвалось: - «а, кто это мы?».
- Я не считаю работы владыки Виктора еретическими, - вместо вопроса: - «а, кто это мы?», обозначил я очень скромно позицию.
- И я не считаю. Работы спорные и весьма неожиданные. Так сказать – будет правильней. Но нам некогда сейчас спорить в интернете и заниматься одним лишь мистическим богословием. Сегодня я не успеваю отвечать на все читательские письма. Зачем и ради чего он поднял эту спорную тему?
- Я владыку предупреждал о последствиях, но он меня не послушал.
- И я предупреждал, хотя и не все работы его успел прочитать. Промысел Божий у Бога. Кто же из нас знает Его? Строить догадки - ещё, куда ни шло. Но безапелляционно утверждать – самое последнее дело. И будь ты хоть трижды владыкой, всё равно, тебе никто не поверит.
- Согласен. Только не стану я, братец, становиться у него на пути.
Отец Валерий серьёзно задумался и внимательней уставился на дорогу. По наивности, я подумал, что столь серьёзно задуматься заставили его мои последние слова. Но, получилось - ошибся. Батюшка пропустил всю реплику мимо ушей. А задумался он о чём-то другом. Во всяком случае, когда отец Валерий опять заговорил, эта тема уже не присутствовала.
Ещё не однажды приезжал я в Амосовку. Всегда приятно побывать на старом приходе, увидеть институтского приятеля, и вспомнить с ним былое и молодость.
Жизнь, для спасения, наша прекрасна.
И кто же об этом не знает?
С Божьей помощью, пошли успешнее пастырские дела на приходе. С монархистами, русскими националистами и казаками, я отношений не прерывал. Мы, как и прежде, продолжали молиться. По казачьей рекомендации, меня пригласили преподавать Закон Божий в механический техникум. Это средне-специальное учебное заведение готовило рабочие кадры для Воронежского механического завода. Сам же завод выпускал, ни много, ни мало, а самые, что ни на есть, современнейшие ракетные двигатели. И как мне объяснили, чтобы выпускать подобные двигатели, США надо ещё лет двадцать ломать свою голову.
Времени свободного ещё оставалось достаточно. И я его с пользой использовал. Помимо чтения и келейных молитв, написал несколько писем, статей и стихов. У Диодора стояло в библиотечке Священное Писание на церковно-славянском языке. Попросил Его у хозяина и начал потихоньку читать. Тем самым, исполняя свою давнюю и заветную мечту – прочитать Священное Писание на церковно-славянском языке. Чтение продвигалось очень медленно, но, всё ж таки, продвигалось.
Иногда названивал владыка Виктор и справлялся о делах и успехах. Как и меня, его, несказанно радовало, что из множества патриархийных священников с академическим духовным образованием, преподавать Закон Божий в механическом техникуме, выбрали не из их числа, а никому неизвестного и единственного в Воронеже - иеромонаха Южно-Российской епархии РПЦЗ (В).
Радовался он и своей возросшей известностью. Радовался, как малый ребёнок. При каждом звонке, владыка Виктор старался упомянуть, ту или иную, свою новую статью, только что появившуюся в интернете. Помимо работ на богословскую тему, он писал много и по текущим церковным проблемам. Как раз, в это время, на нас обрушились с критикой братья Алфёровы из РИПЦы. Им, почему-то, казалось, что викарный епископ, по своей благодати, ниже епископа правящего. На этом ущербном постулате они и строили критику в адрес РПЦЗ (В), порой, доходящую до полнейшего абсурда. А их неустанное попугайство - «мансонвильские викарии, мансонвильские викарии…» - набило всем прямо оскомину.
Владыка вынужден был отвечать на их выпады.
Теперь уже много критики вылилось (и всё ещё выливается) в его адрес. Сейчас - меньше, а раньше - больше. И критики, порой, незаслуженной. Молчать нельзя. Молчанием предаётся Бог. В РПЦЗ (В) имелись люди могущие писать на злободневные церковные темы. Это и епископ Владимир (Целищев), и о.о. Валерий Рожнов, Вячеслав Лебедев, Вениамин Жуков и многие другие пастыри и миряне. Однако все, почему-то, упорно молчали. А если и не молчали, то писали, всё больше, по-тихому - частно [329] или же в письменный стол. Вот и приходилось «отдуваться» одному епископу Виктору. Критиковать пишущего человека легко. Ума тут особого не надо. А ты попробуй сам возьми, да и напиши, как следует.
Владыка писал много. Много и ошибался. Чаше всего, ошибался не по «еретическим» соображениям, как об этом трезвонили на каждом углу его оппоненты, а из-за корявости изложения, косноязычности, а то и из-за досадных редакционных книжно-брошюрных помарок, неточностей. Узрев такие ошибки, критики раздували их до невероятной величины. И в интернете начинался такой шум и гвалт, что хоть уши свои затыкай. Особенно изощрялись жиды и жидовствующие. В РПЦЗ (В) их оказалось великое множество и с ними церковным «верхам» приходилось считаться.
Компьютера у меня не имелось. Все интернетные новости я узнавал от правящего архиерея, отца Валерия Рожнова и от некоторых молодых прихожан.
Лето стояло в полном разгаре. Часть прихожан разъехалась по дачам и отпускам. Стало проще появляться в городе. Храм находился недалеко от Чижовки [330]. В этом районе добрые люди указали на оптовый магазин, торговавший дешёвой церковной утварью. Цены меня заинтересовали. И позднее, я с удовольствием покупал там кадильный уголь, ладан, а иногда и восковые свечи.
В самые тёплые и погожие дни, с иноком Диодором мы совершали променады по набережной. Чаще всего, вечерами. Ходок он неважный. Но до почты мы запросто доходили. А потом возвращались обратно. Город мне нравился всё больше и больше. Особенно его старинная часть. Нравилось так же нагромождение домов, коттеджей, храмов и старинных построек на возвышенной части вдоль набережной.
Время шло, убегало.
Приближалось празднование дня памяти святого Митрофания Воронежского…
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. На катакомбном приходе. (Продолжение)
«Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было, - и Бог воззовет прошедшее».
(Книга Екклесиаста или Проповедника. 3:15).
Петр I и епископ Митрофаний Воронежский обладали твёрдыми и неуступчивыми характерами.
Однако же, ладили.
Четыре раза в году празднует Церковь дни памяти святителя Митрофания Воронежского. На первое обретение мощей святителя [331] в храме собралось очень много людей. После Литургии и Молебна прихожане стали упрашивать меня сходить с ними в Покровский собор и поклониться мощам святителя. Не вдруг и не сразу я согласился. Идти в осквернённый Московской патриархией собор мне не хотелось. Но братья и сестры так просили, и так настаивали, что пришлось согласиться. Я надел мантию и клобук. «Господи, благослови». С тем взял и пошёл.
Если идти знаючи, то от нашего храма и до Покровского собора не более трёх километров. На улице погода прекрасная. Небо без единого облачка. Тёплый ветерок приятно обдувает лицо и колышет тополиные листья.
Приближающейся осенью в воздухе ещё и не пахнет.
В Воронеже не очень густо с монахами. Поэтому прохожие смотрят по-разному. Встречаются и знающие. Такие люди ещё издали крестятся, реже подходят под благословение. Остальные смотрят как на африканского человека или же делают вид, что не обращают на тебя никакого внимания. Мол: - «идёшь себе, ну и иди». Славя Бога за всё, мы и шли.
При подходе к Покровскому собору воронежцев заметно прибавилось. Одни уже возвращаются домой. Другие торопятся приложиться. Наконец показался собор. Около него стоят целые толпы людей, желающих приложиться к мощам святого святителя. В огромном соборе все не помещаются. И часть верующих осталась на улице. То и дело подъезжают автобусы с монашками. И шастают, туда и сюда, больные и прелестные люди. Только монахов поблизости что-то не видно.
Я пристроился в конце очереди и вместе со своими прихожанами, стал медленно продвигаться вперёд. По мере продвижения, всё отчетливей слышалось пение. В соборе служится Молебен с акафистом святителю Митрофанию. Через малое время, мы очутились в притворе, а затем продвинулись дальше. Ко мне начали подходить люди под благословение. И чем дальше я продвигаюсь вглубь, тем всё чаще и чаще благословляю. Пение акафиста продолжается. И тысячи впереди стоящих людей, то и дело, падают на колени. Дабы не сослужить, я остаюсь на своих ногах, перебирая чётки и творя про себя Иисусову молитву. Пройдя половину пути, вдруг, с ужасом обнаруживаю, что все, кто находится за мной, на колени тоже не падают. Они берут пример с меня окаянного. И остаются на ногах. Невольно получилось так, что в соборе люди разделились на две половины. Одни из них падают на колени, другие же молятся совсем по-иному.
Ко мне подходит монашка и с почтением говорит.
- Батюшка! Да, вы проходите вперёд. Что же вы здесь одиноко стоите. Без очереди приложитесь к мощам. Проходите вперёд. Проходите.
Отвечаю.
- Спаси Христос, матушка. Я не тороплюсь. И с людьми постою.
Монашка смотрит на меня удивлённо и своего не добившись, молча отходит. Я гляжу поверх молящихся человеческих душ. «Господи! Сколько же здесь обманутых патриархией людей?». От жалости слёзы наворачиваются на глаза. «Как им объяснить обман и своё заблуждение? Да и надо ли это им?». «Если им и не надо, то нам очень надо». Мы продвигаемся по ходу ещё немного вперёд. Рядом у солеи вижу патриархийных священников. Их четверо. И все они в облачении. Молодые и совсем безбородые. По виду похожие не на священников, а на мясников. Один из них направляется грозно ко мне.
Прямо оторопь взяла. «Никак бить будет?».
- Батюшка! Да, вы проходите вперёд. Что же вы вместе со всеми стоите, - неожиданно, говорит он притворно любезно.
Словно сговорились с монашкой. По его глазам вижу, что он-то бы в очереди не стоял. Как же, такая фигура и в очереди.
- Спаси Христос, братец. Я постою. Уже мало осталось.
Догадавшись, что я не из ихней компании, он смущённо отходит. Рака с мощами святителя стоит на возвышении. Верующие люди прикладываются к мощам и продвигаются к выходу. Очередь подходит моя. Прикладываюсь и аз окаянный. А после, благодарю смотрителя и прикладываюсь к рядом стоящей иконе. Но сразу продвинуться к выходу не удаётся. Плотной толпой меня окружают верующие. Есть и с грудными детьми. Все просят благословение. Я благословляю, что-то им говорю. И так продолжается долго. Начинает рука уставать. А их подходит всё больше и больше. И не видно ни конца и ни края. «Почему они не подходят к своим священникам?» - вертится в голове. «Их же вон сколько».
Мои родные прихожане, видя, что их батюшку уже столь утомляют, стали потихоньку меня оттеснять. Но назад ходу нет и туда не пройти. Двигают к боковому выходу. И я, вместе с ними, медленно, но то ж продвигаюсь. И всё время, благословляю, благословляю...
Сотни людей. Даже тысячи…
Их вина небольшая. Откуда Церковь берёт свои силы известно. Но Церковь земная - пуста без людей во Христе. От каких источников Ей черпать людские резервы? Разве и не от патриархийной среды? Сегодня некоторые наши ревнители слишком уж строго экзаменуют патриархийных людей. И назад почти не оглядываются, забывая, откуда и сами-то в Церковь родную пришли.
Мутная вода успокоится и отстоится. До тех же пор, пока есть самая ничтожная надежда, мы должны сделать всё возможное для их воскрешения и спасения. Глядишь, и сами этим спасёмся. Не нам «взвешивать». Не нам. Придёт время, только оно и покажет, кто из нас, кто. Такое время ещё не пришло. Ждите, готовьтесь, молитесь. Ибо, оно уже не за горами.
Вот тогда Господь Сам «взвесит» и мы воочию увидим, кто с Христом, а кто…
После посещения Покровского собора я ещё долго отходил от полученных впечатлений. Отходил бы и дольше, да новые люди меня отвлекли. К нам на приход, перешли; брат Борис - бывший иподиакон правящего архиерея Волгоградской епархии Московской патриархии и брат Владимир Константинович Неверович – известный воронежский врач и писатель.
Борис – парень откровенный. Он с увлечением рассказывает о своём бывшем служении. В Воронеже этот человек не случайно. Здесь проживает его родная сестра. Она замужем за патриархийным священником – иудеем. Он-то его больше всех и ругает. Иудей, то есть. Обзывает по-всякому. И считает его баловнем, и совсем уж непрактичным человеком.
У Бориса сильный бас и он мог бы легко стать у Германа [332] протодиаконом. За оставленную доходную перспективу зятёк его и ругает.
В отличие от Бориса, Владимир Константинович Неверович ведёт себя тихо и скромно. Сам, всё больше присматривается, чем говорит. Чувствуются и его жизненный опыт, и осторожность. С фамилией ему не повезло. Он так считает. И дабы убедить меня (хотя мне, всё равно), Неверович приносит интернетную вырезку с информацией о своём шляхетстве.
Ладно. Если человеку так хочется, пусть будет шляхтичем. Только вот, на следующий день Владимир Константинович все свои доказательства нивелирует. Он приходит в храм не один, а, зачем-то, приводит с собой ещё и Володю, врача – иудея. Это меня удивило. И ещё сильней удивило, когда узнал, что этот Володя не просто врач-иудей, а ещё и заместитель союза монархистов Воронежской области. Ничего себе заявочки! Еврей и вдруг – монархист. Дожились и до такого вот казуса. И как этот казус произошёл? Я так, до конца и не понял. Не то - по совместительству, не то - по воле кагала.
Борис быстро освоился в храме и вскоре поделился с нами «секретной» информацией. Рассказал, как архиепископ Герман (Тимофеев) ездил к митрополиту Кириллу (Гундяеву) в Москву покупать белый митрополичий клобук. Цена клобука известная – миллион долларов. А повёз только восемьсот тысяч. Кирилл посетовал на недостаточу. А потом смирился и говорит.
- Так и быть, будешь ты, владыка Герман, митрополитом. Только убери из епархии этих батюшек. Больно верующие они у тебя.
И подаёт ему список неугодных батюшек. Герман посмотрел на фамилии. Все люди известные. Делать нечего. И чего только не сделаешь ради белого клобука.
- Хорошо. Уберу, - отвечает.
Вернулся из Москвы митрополитом и батюшек неугодных убрал.
Выходят на меня и священники. Прощупывают, не богаче ли «нива». Попадаются среди них, кто серьёзно запутался, а кто и вправду, ищет спасения. Двое, из ищущих, желают встретиться с правящим архиереем. Хотят поговорить с ним о переходе. Я позвонил владыке и сообщил ему приятные новости. Владыка Виктор не против встречи и разговора. Он, как раз, собирался в Москву и пообещал заехать оттуда в Воронеж. Благословил меня предупредить и подготовить священников.
Один из них - игумен Сергий (Чурбаков), а другой - иерей Александр. Игумен Сергий ушёл от самосвята и экстрасенса Рафаила (Прокопьева). Сам игумен, а Литургию никогда не служил. Может ли такое быть? Я думал, что – нет. А оказалось, что может. Отец Сергий понимает всю трагикомичность ситуации и смотрит на будущее с оптимизмом.
Иерей Александр гораздо моложе отца Сергия. Проживает он в Валуйском районе, Белгородской области. А до этого служил в Донецкой епархии Московской патриархии. Зациклился на новых паспортах, ИНН и штрих кодах. Из епархии его выгнали. Матушка с дитём бросила. Вида несчастного и неуравновешенного. Очень похожий на психически больного человека.
Владыка, как и обещал, заехал на Воронежский приход проездом из Москвы. Заехал не один, а вместе с иереем Иоанном Савченко [333]. Задушевно поговорил с обоими кандидатами. Отец Сергий ему, чем-то, понравился. И он взял его с собой на Кубань. А от отца Александра наотрез отказался. Я не вмешивался и ни за кого не просил. Хотя отца Александра было и жалко.
У отца Сергия владыка признал один лишь монашеский постриг. В ходе беседы выяснилось, что постригали его не у Рафаила, а в Московской патриархии.
Приходской священник несёт огромную ответственность перед Богом и людьми. Это должно быть известно каждому батюшке. Может и известно. Только вот далеко не каждому батюшке удаётся осознать и понять эту истину до конца.
На приходе часто встречается и иное.
С ответственностью я столкнулся, когда остался за настоятеля. Тогда-то и ощутил всю её тяжесть и вес. Верующий человек видит в батюшке - некий источник житейской мудрости. Так ещё исстари повелось. В жизни случается всякое. Иногда человеку трудно самому принять правильное решение. Поэтому он и обращается к священнику за помощью, за мудрым советом.
И хорошо, ежели батюшка умудрён житейским опытом.
А, если нет?
Неверным советом легко и жизнь поломать человеку. Позднее я насмотрелся на поломанные жизни и на тех, кто их так легко поломал. От ответов приходскому священнику уйти невозможно. Если ответа не знаешь, так прямо и скажи, что не знаю. Гоняться за дутым авторитетом – смерти подобно. И сам смертно согрешишь и человека глупым советом погубишь.
Ещё в Славянске-на-Кубани довелось мне поучаствовать в житейских проблемах одного местного шофёра-дальнобойщика и его семьи. Случай в священнической практике первый. Потому и крепко запомнился. Я этого человека раньше не знал и даже не видел. Он, будто ошпаренный заскочил в церковную ограду и, узрев меня с большой снежной лопатой [334], прямо сходу начал взволнованно говорить.
- Хорошо, что я тебя на месте застал, святой отец. Иду убивать свою жену. А на пути церковь. Ноги сюда сами и завернули.
Его волнение мне не передалось. Вначале я даже подумал, что этот человек находится в наркотической зависимости. Славянск-на-Кубани – городок южный. И в нём очень много проживает наркоманов. Как бы там ни было, пришлось оставить работу.
- Само по себе в жизни ничего не происходит. И коль ты зашёл в церковную ограду, значит зашёл не случайно. Рассказывай, что там у тебя стряслось.
Моё спокойствие и как бы, совершенное равнодушие, его немного успокоило. И в самом деле, погода стоит превосходная. С неба сыпет снежком. Морозец с утра минимальный. Дышится легко и свободно. Какие проблемы? И всё же, у него они есть.
- Батюшка! – подивившись моему спокойствию, начинает исповедаться молодой человек. Его несчастье извечное, как и сама эта жизнь. – Я шофёр-дальнобойщик. Чтобы прокормить семью сутками кручу баранку. Сами знаете, работа у нас не сахар. Приезжаю домой, а она с любовником. Пойду сейчас и убью.
Подумалось: - «если ты не убил сразу, то позднее убить не так просто».
- А дети у вас есть?
- Дочке скоро двенадцать лет.
- И ты дочку любишь?
- Конечно, люблю. Что за вопрос?
- Ты сейчас пойдешь, убьёшь свою жену, а заодно и маму своей любимой дочери. Тебя лет на десять посадят. Дочка останется одна. А теперь подумай, как твоя родная дочь станет дальше жить? И, наверное, будет тебе очень благодарна за смерть матери? Ты, человек опытный. Шофера почти все люди опытные и я знаю, о чём говорю. Есть ли смысл, из-за женской распущенности, в которой, кстати, есть доля и твоей вины, или же женской слабости лишать жену жизни, самому садиться в тюрьму, а дочь отправлять на панель?
Шофёр растерялся и призадумался.
- И что же мне делать, святой отец?
- Называй меня батюшкой. Святые отцы у католиков. Что делать? Простить. Простить свою благоверную. Простить ради всего святого. Ради дочери. Ради всех родных и знакомых.
- Не могу я простить. Измену простить не могу, - обречённо выдавил из себя потерпевший.
- Жить у тебя есть где?
- Мать одна в Славянске проживает.
- Тогда переходи к матери и живи. И не просто живи, а новой жизнью докажи своей падшей жене её заблуждение и ошибку. Стань выше обид. Работай. Одевай дочь и корми. Выучи её в хорошем институте. Сам стань примерным человеком. Пусть твоя жена увидит, как она жестоко ошиблась. И если у неё ещё осталось хоть капля человеческой совести, то она сама к тебе приползёт на коленях. Приползёт и попросит прощения. И ты прости её. Потому, как и сам грешен блудом. Грешен или нет?!
- Грешен, батюшка, грешен, - поторопился с ответом шофёр.
- Тогда иди. Подумай над моими словами. И стань другим человеком!
- Спасибо тебе, батюшка!
- Бога благодари, а не меня. И храни тебя Бог.
Не знаю, что там дальше у него произошло. Но про убийство не слышал. Славянск-на-Кубани – городок не большой. И если бы такое случилось, до меня бы точно дошло.
Второй случай, о котором поведаю, гораздо более драматичен. Для меня он особенный. И до сих пор, колет в сердце занозой.
На Воронежском приходе мне запомнились все прихожане. Храм постоянно посещало не более сотни человек. Поэтому всех и запомнить не трудно. Женского полу посещало больше. Мужского меньше. Большинство прихожан исповедывалось, как и положено по церковному Уставу, после Всенощной службы. На часах или же до часов, исповедывалось реже. И обычно это те, кто не смог приехать на Всенощную. А исповедовать во время Литургии, как это сплошь и рядом теперь делается, такого и не припомню.
Исповедь – таинство сугубо личное. Люди по-разному исповедываются. И по времени тоже исповедываются не одинаково. Кому-то больше требуется времени, а кому-то и меньше. Рабе Божьей Елене, а речь пойдёт ниже о ней, требовалось много времени.
И я её никогда не торопил.
Однажды, она пришла в храм со своей родной сестрой и попросила меня внимательно её выслушать. Служб в этот день не намечалось. Мы прошли на кухню. Там инокиня Агафоника согрела нам чая, а сама ушла в свою келью. Мы остались одни.
- Отец Дамаскин, - обратилась ко мне Елена. – У меня очень сильно болит голова. Так болит, что и жить не хочется. В клинике я прошла обследование. В голове у меня обнаружили опухоль. Медики не знают, то ли опухоль злокачественная, то ли – нет. Они предлагают её удалить. И я не знаю, что мне делать. Пришла посоветоваться с вами. Как вы скажите, так я и поступлю.
Я, конечно же, знал о болезни Елены. Был в курсе, что ей уже дважды удаляли злокачественные опухоли, только удаляли не в голове, а в других местах. Знания, знаниями. А, всё же, её откровения застали меня, признаюсь, врасплох. Да и голова, как думалось мне - намного серьёзней всего остального. Я призадумался. И спустя лишь, какое-то, время спросил.
- А ты можешь жить и дальше с этой болью?
- Уже не могу.
- А врачи, что тебе говорят?
- Они ничего не обещают. Говорят, что операция для них сложности не представляет. И что если опухоль не злокачественная, тогда всё будет нормально.
- А сама-то ты, к чему склоняешься?
- К операции.Жить с этой болью я уже не могу. Я знаю, что всё в руках Божьих. И к смерти своей я уже приготовилась. Мужа и детей только жалко.
И Елена расплакалась.
Что делать? Как быть? Отговорить женщину от операции? Но она уже больше не может терпеть эту боль. Благословить её оперироваться, а самому «умыть» руки? Вот, тут-то, я и почувствовал всю тяжесть пастырской ответственности. И не сказать ничего ей - тоже нельзя. Елена пришла в храм за ответом и помощью. Хотя, для себя, она сама уже всё и решила.
- Знаешь, что, Лена. Земная жизнь – штука временная. И ты это понимаешь. Будем молиться и надеяться на Господа Бога. Если ты нужна ему там – он тебя заберёт. А если ты нужна ещё здесь - то оставит. Поступай тогда так, как решила. И не бойся уже ничего.
Так она и поступила. Решилась на трепанацию черепа и удаление опухоли. Врачи Лену не обманули. И операцию провели на высоком профессиональном уровне. Только вот опухоль оказалось злокачественной. Лена годик ещё пожила. А после, Господь её к себе и забрал. А произошло это уже без меня [335]. Узнал о её смерти позднее. И на всю жизнь зародились сомнения. Правильно ли благословил? Не виноват ли? Тяжкая у священника жизнь. И жизни его не позавидуешь.
Ближе к осени, а потом и осенью, стал мне чаще названивать владыка Виктор. О планах Парижских я ему ничего не сказал. Промолчал. Всё равно, ведь, от них отказался. А скажи, так скандала не миновать. Уж лучше худой мир, чем добрая ссора.
Да, ещё и неизвестно, добрая ли?
Владыка Виктор названивал не ради праздного любопытства. Как ни странно, но он тоже подталкивал меня к скорому архиерейству. Хотя, если вникнуть в суть дела поглубже, то странного в этом ничего нет. Каноническая территория ему досталась огромная. И эффективно управлять ею не представлялось возможным. Это не под силу и молодому человеку. Владыка же не молодел. Старческая немощь постепенно одолевала. И ему срочно требовался помощник в архиерейском сане.
Но не просто помощник, а, обязательно, из его твёрдых единомышленников, хорошо понимающий текущую церковную ситуацию, а, стало быть и свою задачу [336]. По его мнению, кроме меня, таковых людей поблизости не наблюдалось. Владыка Виктор так же полагал, что почти все священномонахи Южно-Российской епархии, если ещё и не до конца отпетые гуляки, и пьяницы, так, сплошные его супротивники и одни махровые иудеи. Так оно, по факту и было.
И его мысли я тогда вполне разделял.
Дважды или трижды звонил и протоиерей Вениамин Жуков. Он готовил мне документы для вызова во Францию и Канаду. Уточнял метрические данные, а заодно интересовался положением дел на приходе и в российских глубинках. Почему бы самому ни приехать в Россию и лично не посмотреть? Тем более что родину предков он никогда в жизни не посещал. Ан, нет. Кто-то наговорил ему, что в России его сразу убьют [337]. Как будто во Франции убить его невозможно.
Мне казалось, что во Франции убить человека намного легче и проще.
О готовящихся кандидатских «смотринах», на приходе я никому не сказал. Эти «смотрины» мне и самому не нравились. Подумайте сами. Сначала надо было предстать пред «рентгеновские» очи отца Вениамина. И не просто предстать, а ещё и понравиться. А нравиться я не умею (и никогда не умел). Потом лететь дальше, через океан. И тоже, с такими же целями. И если бы только лететь к одному митрополиту Виталию. А то, ведь, не к нему одному. А, говоря по правде и вообще, не к нему. А, скорее, к госпоже Людмиле Роснянской. С нею мне встречаться совсем не хотелось.
Не говоря уже, чтобы понравиться.
Приход и город Воронеж тоже покидать не хотелось. Отец Иоанн появлялся в храме и городе редко. На приходе я всё чаще оставался один. Служить и келейно молиться мне никто не мешал. Люди привыкли и уже полюбили. Как известно, на Руси от добра, добра не ищут. И я другого добра не искал. Поставят епископом или нет, это ещё неизвестно. Здесь же приходская жизнь наладилась. Прихожан и меня она полностью устраивала. И не только жизнь приходская. Преподавание Закона Божьего в механическом техникуме, а так же тесное сотрудничество с казачеством, внесли определённое разнообразие и свой интерес. Наш храм постепенно становился центром духовной и политической оппозиции.
И сказано это без всякого преувеличения.
Меня должен был заменить иеросхимонах Феодосий (Боровский). И как у него пойдут дела, предсказать было трудно. Особых надежд я не возлагал. И за оставшееся до отъезда время, старался подготовить людей к грядущим переменам. Я их хорошо понимал. Они уже устали от священнической чехарды. И видеть другого священника на приходе никому не хотелось.
Но, кто и когда нас спрашивал?
В декабре месяце, получив необходимые документы и тепло распрощавшись с прихожанами, я отправился (через Амосовку) в Москву обивать пороги дипломатических представительств. Во французском посольстве проблем никаких не возникло.
Французы молодцы.
Они любезно и без всякой там бюрократии, сразу выдали на руки Шенгенскую визу. А вот в Канаду посольские чиновники меня не пустили. Видимо, посчитали иеромонаха РПЦЗ (В) нежелательным субъектом в этой стране и серьёзной угрозой для её демократии.
С посольскими людьми не поспоришь.
Пришлось вернуться к отцу Валерию в Амосовку и по телефону рассказать секретарю Архиерейского Синода о сложившейся ситуации. В конце, концов, только он один временно руководил моими дальнейшими шагами и действиями.
Отец Вениамин меня очень спокойно и внимательно выслушал. А затем старчески покряхтел, покряхтел в трубку от неудовольствия и посетовал на неудачу. Однако дабы не терять понапрасну время и деньги, уже и так потраченные на билеты, предложил мне, всё же, приехать в столицу Франции. То есть показаться, хотя бы, ему. Ничего не поделаешь.
Предложение секретаря Архиерейского Синода – почти равносильно архиерейскому благословению. Отказываться никак невозможно. И всё бы ничего. Если бы не эта простуда. Будь она трижды неладна. Так некстати меня одолела. Пока я ездил в Москву и обратно, пока выстаивал на холоде в посольских очередях – жестоко простудился и заболел гриппом. Да ещё так заболел, что впору в больницу ложиться, а не разъезжать по европейским столицам [338].
Не считая Литвы, по заграницам я раньше не ездил. А тут взял, да и поехал и не куда-нибудь, а сразу в Париж – столицу масонского мира.
Поехал не сразу.
Отец Валерий, несколько дней кряду, вводил меня в курс тамошней парижской жизни. И всё консультировал, консультировал…
Так скрупулёзно консультировал, что своим упрямым занудством достал почти до самых печёнок. Всё расписывал и рассказывал до мелочей. Чуть ли не, как подносить ложку ко рту. Что сказать матушке Ольге [339]. Этого говорить не следует. А это надо сказать обязательно. И так далее. И всё в этом же духе. В последние дни я уже слушал его в пол-уха. Мой друг старался. Он очень хотел, чтобы я понравился «всесильному» отцу Вениамину и непременно стал епископом Церкви. От этой поездки зависела не только моя хиротония, но и его собственное пастырское благополучие.
В случае успеха, он мог вполне рассчитывать на самое выгодное и почётное место при новом епископе. То есть при мне.
Признаюсь, из-за усилившегося гриппа и врождённого равнодушия к карьере, слушать его поучения, да ещё и вместе с «ценными указаниями», было не слишком приятно. И это ещё мягко сказано. Я попытался сопротивляться. Но, на все мои попытки к сопротивлению, отец Валерий реагировал так остро и так болезненно, что приходилось после сожалеть, и уже дальше тихо и мирно сидеть на диване, смиренно терпя все его ценные указания и отеческие поучения [340].
Владыка Виктор тоже не оставлял меня своим вниманием. Но его редкие телефонные звонки не шли ни в какое сравнение с наставлениями моего друга. Владыка и не наставлял. Он лишь интересовался ходом моих дел. Спрашивал о настроении. И поторапливал с поездкой. Его, так же, как и меня, меньше всего интересовал сам результат поездки. Главное, чтобы всё это, наконец, закончилось. Канитель с документами и потом обивание посольских порогов затянулось на долгое время.
Длительное ожидание всем уже надоело.
Статейные публикации подняли владыке настроение. Это чувствовалось по его голосу в телефонных разговорах. Он (а затем и многие другие авторы) называл свои статьи программными. Ему казалось, что вот сейчас их люди прочитают, проникнутся и поймут и, буквально, завтра же, всё изменится к лучшему. Время шло, но к лучшему ничего не менялось.
Скорее наоборот.
Если в богословских вопросах и имелось, хоть, какое-то единодушие [341], то в вопросах церковного строительства и церковной политики ничего подобного не наблюдалось. Получалось, как в той присказке – сколько людей, столько и мнений.
Каждый старался высказаться по этим вопросам в отдельности. И не только высказаться. Что вы? Только высказаться нам всегда мало. Люди не просто смело высказывались, но и не забывали ставить программу своего правящего архиерея под сомнение.
Многие священники повели активную закулисную борьбу с епископом, всячески подрывая и так ещё не до конца сложившийся архиерейский и духовный авторитет. Особенно в этом преуспевали священники-иудеи. Действовали они проверенным способом, по-старинке - хитро и исподтишка, - благословляя своих чад на публичные интернетные выступления, глумления и осмеяния.
Что же им так не понравилось в статьях владыки Виктора?
А не понравилось им то, что впервые (за всё время иудео-масонского господства) русский православный епископ, наконец-то и в кои-то веки, осмелился публично и с высоты своего архиерейского стояния, озвучить современное жизненное положение и способы борьбы с жидовской оккупационной политикой в России и мире. Им это очень сильно не понравилось. Прямо, что кость в горле. Да и не могло понравиться, поскольку жидовские гены и семитская кровь брали (и взяли) своё.
Как бы они не прикрывались священническими одеждами, православными санами и верой во Христа, на самом-то деле, во Христа, спасение и жизнь вечную они никогда не веровали. Для них принадлежность к избранному народу, его прочно устоявшееся мировое господство, а, следовательно, особенная гордыня и исключительность – всегда стояло (и стоит) на первом месте и оно для них - прежде всего! Избранность, мировое господство, гордыня и исключительность и оказались теми главными, и определяющими постулатами их поведения на интернетных страницах.
С противной стороны крик шёл не о правильности или же неправильности способов борьбы с иудео-масонством. Об этом они усердно и упорно замалчивали. Кричали совсем о другом. О чём угодно, но только не о главном. Кричали о второстепенном и даже ещё дальше. О текстовых ошибках, корявом слоге и тому подобном. И как это водится в жидовской среде – всё больше, глумились и смеялись, выдавая своё бесовское глумление и смех, едва ли не за истину в последней инстанции.
К нашему общему стыду и все русские священники тоже остались недовольными владыкиными публикациями. Хотя и по другим мотивам. В их число попал и я. Свои претензии к публикациям я уже высказывал выше, поэтому повторяться не стану. На мой взгляд, они вполне обоснованы. Для других же священников, публикации стали большой неожиданностью.
От неожиданности они растерялись.
И не знали, что делать и как поступать дальше. Образно говоря, статьи их расшевелили и разбудили, а им всё ещё хотелось немного поспать. Третьи начали спорить о способах ведения борьбы. Малая часть священников увидела в работах архиерея одну лишь только политическую составляющую и не заметила духовной. Среди них нашлись и такие, которые стали этим громко возмущаться, ссылаясь на полную аполитичность Поместного Собора 1917-1918 годов.
Они недоуменно спрашивали друг у друга: «почему тогда поступили так, а теперь архиерей поступает по иному?».
Одним словом, публикация статей владыки Виктора радостей (кроме их автора) никому не принесла. Однако архиерейское слово сказано. И его уже назад не воротишь. Хорошо понимая это, я и отнёсся к происходящему гораздо спокойнее остальных батюшек. Более того, мне думалось, что раз уже всё произошло и изменить теперь уже ничего нельзя, то нам, ни в коем случае, нельзя присоединяться к священникам-иудеям. И вместе с ними становиться в оппозицию к правящему архиерею. Я полагал, что в стратегическом плане владыка Виктор, несомненно, прав. И что русским священникам следует незамедлительно перейти на его сторону, чтобы, как можно быстрее и эффективнее его поддержать [342].
От моей позиции отец Валерий был не в восторге.
И только.
На большую печаль и сетование у него не осталось ни времени, ни сил. Он так увлёкся подготовкой моего предстоящего отлёта во Францию, что, казалось, просто выпал из настоящего времени. И поэтому тоже, он не придал особого значения моим убеждениям и словам.
О чём, может быть, после и пожалел.
Родненькие мои!
Рассказывая вам о своём друге, не могу не упомянуть добрым словом и о его церковном регенте - Ю. В. Хомутинникове. На приходе у отца Валерия окормлялось много интересных людей. В их число входил и Ю. В. Хомутинников. С высшим музыкальным образованием и довольно обширной богословской подготовкой, Юрий Владимирович привлекал к себе всеобщее внимание.
Привлекал и моё внимание тоже.
Музыку и церковное пение я любил и люблю. А тут такой мастер. Ю. В. Хомутинников был достойным представителем церковного музыкального творчества. Мы с ним часто и помногу разговаривали. Случалось, что вместе исполняли мелкие послушания нашего общего духовника. Я любил послушать песни в его исполнении, и поговорить с ним на богословские и музыкальные темы.
В прошлом, Ю. В. Хомутинников преподавал в Курской духовной семинарии, регентовал в кафедральном соборе Московской патриархии. Он знал многих курских патриархийных знаменитостей и мог часами о них интересно рассказывать
Перейдя в РПЦЗ, он ничуть не потерялся.
Как-то (и не без моего участия), Юрий Владимирович начал творческую работу над целым песенным циклом. Работал он с упоением. Её окончание совпало с моим отъездом во Францию. Музыку, аранжировку и вокал церковный регент исполнил сам, а тексты позаимствовал у известного московского поэта Н. Боголюбова, белгородской поэтессы Е. Стеценко и у меня.
Отцу Валерию песни очень понравились. Он их даже посчитал нашей миссионерской проповедью и неким музыкальным прорывом к широким слоям церковной общественности. Диски быстро разошлись. Правда, очень малым тиражом.
На больший тираж у нас не хватило средств.
Поэтом я себя никогда не считал и не считаю. Однако по своей греховности и человеческой немощи, часто что-то, рифмуя, записывал. Для разнообразия и сущего интереса, добрые люди посоветовали мне вставить и в этот текст несколько стихотворений. Вначале я долго колебался. Как-то, неудобно перед всеми открывать свои поэтические тайны.
А потом подумал и решил рискнуть.
|
НАВАЖДЕНИЕ Ночь прошла. Брезжит рассвет, В небо утро зорится, То ли снится, то ли нет, В келье – Богородица! Огонёк дрожит свечи, Нимбовые всполохи, Белоснежные парчи, Тканевые шорохи… Ароматная волна, В душу счастье ломится, Ни живой, ни мёртвый я, В келье – Богородица! Этого не может быть! Мысль мелькнула глупая, Как же мне с ней дальше жить С этой мыслью глупою? Богородица! Прости! На колени падаю, Слов других не донести, Не могу. И надо ли? На полу лежу один, Страхом Божьим дышится, «Поднимайся, Дамаскин», От порога слышится. Огонёк свечи потух, Лики расплываются, Захватило счастьем дух, Все мечты сбываются… Шорох слышу за спиной, Голову склоняю. Всё исчезло. Что со мной? Почему не знаю? Посмотрел в окно опять, Свет по небу торится… Русь обходит Божья Мать, Дева – Богородица. +++ |
Вышли мы все из народа, Дети семьи трудовой… (из советской песни). + Мы все из народа не вышли, А кто-то им вовсе не был, Вынашивал злобные мысли, Для будущих братских могил. Идеи вампирные строил, Растрельные вышки чертил, Пытался воспитывать гоев - Начинку для братских могил. Строчил докладные записки, Начальников льстиво хвалил, Подачки долизывал с миски, У номенклатурных квартир. И мысли не мучил грехами, И слёз понапрасну не лил, С расстроенными потрохами, До пенсии после дожил. Живёт и сейчас где-то рядом, И песни всё те же поёт, Змеиным наполненный ядом, Хотя и беззубый уж рот. Таких ещё много осталось, «Детей из семьи трудовой», Иудам и мойшам на радость - Команде одной – гробовой. А кто из народа и вышел, Обратно в него не вступил, Остался навечно у вышек, Начинкою братских могил. +++ |
+
Гори, гори моя свеча, Пока молюсь, пока я зрею, Пока душа моя ничья, Пока смертельно не болею.
Гори, гори моя свеча, Пусть этот мир горит с тобою, Сгорит пусть лампа «ильича», А ты останешься со мною.
Гори, гори моя свеча, Пока я слёзы все не вылью, Пока душа моя ничья, Не поросло пока всё былью.
Гори в ночи, гори во мгле, Во тьме указывай дорогу, Жить не могу уже нигде, Могу одно – молиться Богу.
+++
Если, Бог даст, в конце повествования, поэзии и вообще сочинительству, посвящу отдельную главу. И вы тогда убедитесь, что поэт из меня никакой.
Монашеская жизнь на мирском приходе, помимо своей неестественности и далёкости от классической монашеской жизни, полна трудностей ещё и другого плана. В частности, множественного подчинения, а стало быть и множественного послушания. Я это испытал на собственном опыте, когда попал в иерархическую зависимость сразу от нескольких человек одновременно. Настоятель, благочинный, правящий архиерей и секретарь Архиерейского Синода могли дать своё послушание, от которого я не мог даже и подумать отказаться. Слава Богу, старшие священники меня делами не загрузили.
И всё же, некоторое давление я испытывал.
Если от благочинного, секретаря Архиерейского Синода и правящего архиерея исходило человеческое тепло, живое участие и отеческая благосклонность, то от отца-настоятеля Иоанна Крамаренко исходило нечто иное и не слишком тёплое.
Он отрицательно высказался о моём, пусть пока и гипотетическом епископстве. Своим особо приближённым прихожанкам отец-настоятель заявил, что в случае моей епископской хиротонии, он никогда не признает меня за епископа. Скажи мне такое отец Иоанн лично, я бы мог выяснить причины его недовольства. Но отец Иоанн высказался в своём стиле. Высказался, как всегда - тихо, из-за угла - «по катакомбному». «По катакомбному» его мнение до меня и дошло.
Я с ним очень мало служил. Но так получалось, что при каждом его приезде на Воронежский приход, мы о чём-то с ним серьёзно говорили. И говорили, чаще всего, не по моей, а по его же инициативе. Как я понял, отец Иоанн пытался навязать мне свой образ мышления. Однажды, он заговорил о епископе Вениамине (Русаленко) из РИПЦы. Когда-то он наставлял его пастырскому служению. И теперь, вдруг, вспомнил. Заговорил об этом человеке в похвальных тонах, ставя его в пример.
Я не выдержал, возьми и скажи.
- Отче, Иоанне! Я слышал от владыки Виктора, что он содомит!
Отец Иоанн посмотрел на меня чуть внимательней, немного поразмышлял о чём-то своём, а потом и отвечает спокойно.
- Ну и что, что содомит. Зато он хорошо знает архиерейскую службу.
«При чём здесь архиерейская служба?» - в недоумении, подумалось мне. - «И о чём тогда говорить дальше с этим человеком?».
После я много раз задавал [343] себе один и тот же вопрос: - «почему у нас в России каждый верующий человек может публично высказаться об архиерее или кандидате в архиереи негативно, не имея для такого высказывания никаких вероучительных и морально-нравственных причин. Даже не просто высказаться, а, по сути своей, оклеветать человека в сане?». Судят направо и налево. И судят все, кому не лень. При этом, руководствуясь личностными ощущениями и совершенно не задумываясь о Евангельском «бревне» в собственном глазу и о тяжести греха осуждения.
Разные мысли приходили в голову. И о нашей христианской малокультурности, и её истоках [344]. И о маловерии. Та как, при постоянном страхе Божьем, самоуничижении и любви такие суждения невозможны.
Мыслил я и о многом другом.
Из-за отсутствия в России монастырей РПЦЗ, на мирском приходе монах подвергается великому множеству искушений и соблазнов. А отдельные миряне настолько свыкаются с его немощами, успехами и ошибками, что перестают замечать в нём монашествующего человека. Хоть и хотелось бы, но от мирян никуда не денешься. Поэтому и приходится спасаться не в окружении братии и монастырских стен, а в тех условиях, которые есть. В том числе и при мирском суждении, и осуждении.
Если раньше епископа ставили прямо из монастыря, то сегодня его ставят из мира. Из того самого мира, в котором он уже успел кому-то не понравиться, кому-то и как-то досадить, сказать в глаза правду, сделать замечание, просто случайно подвернуться под горячую руку и так далее, и тому подобное.
На православных приходах преобладают женщины. И почему-то, чаще всего, те из них, кто посчитал себя обделёнными мирскими и житейскими радостями. Горе-то, какое! Поэтому, излишние эмоции, нервозность и неуравновешенность, особенная логика мышления и ещё многое, и многое другое и всё это помноженное на дьявольское искушение и длинный язык, порой, так сотрясают приходской воздух и человеческие души, что бедному монаху впору бежать от всех этих страстей и людей подальше. И бежать, всё равно, куда. Куда глаза глядят, туда и бежать - в пустыню, леса или горы. Лишь бы, как можно быстрей и подальше от этого злобного мира. Отчаявшись, много раз я думал о таком варианте. И всякий раз приходил к заключению, что убежать от людей можно. А убежишь ли от самого себя?
Да и спасительно ли такое бегство для священномонаха?
На российских приходах РПЦЗ, РПЦЗ (В) бросалась в глаза и ещё одна и, на мой взгляд, совершенно дикая, особенность. Когда пустяшный спор о чём угодно; об историческом ли моменте, о том или ином человеке и далеко не всегда о человеке церковном или ещё о чём-то другом, становился непреодолимым камнем преткновения. Никто и никому не хотел уступать. Спорщиков дьявол улавливал и разбрасывал по разные стороны баррикад. Сегодняшних друзей и сомолитвенников делал непримиримыми врагами.
И потом легко уводил их из Церкви.
А спорили, практически все. Начиная от, тех же самых, «судьбою обиженных женщин» и до приходских священников, а то и архиереев. Каждый старался своё собственное мировоззрение, своё гордое и исключительное я, противопоставить истине и при этом, как можно больнее задеть или даже словесно ударить (а то и вовсе уничтожить) своего оппонента.
О, если бы всё исполнялось в Церкви по слову Апостола: «ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные» [345].
Но, увы…
Открывались не искусные, а бесовы.
Поначалу я ужасался от столь чудовищного антихристианского действа. Содрогался от увиденного начала конца РПЦЗ (В). Сиднем и в шоке долго я не сидел. Попытался достучаться до мудрости и христианского благоразумия своего правящего архиерея. Пробовал его увещевать, неоднократно указывал ему (и не только ему) на недопустимость происходящего разрушения Церкви. Однако, потерпев на этом поприще полное поражение, опустил свои руки и стал смиренно ожидать ещё худшего. Выше уже упоминалось об этом моменте. И всё же, приходится его повторить, так как, ход нашей церковной истории подтвердил все мои самые наихудшие ожидания и опасения.
Длинная череда последующих расколов, как раз строилась и построилась на этих выяснениях «истины в последней инстанции». Сатана знал, когда и на что больнее всего надавить. И надавил так, что от Церкви отлетела вся «шелуха».
Остались одни лишь Евангельские зёрна без плевел.
Но это произошло потом, несколько позднее. А пока же, я слушал в пол-уха своего друга - отца Валерия Рожнова и потихоньку перебаливал гриппом. Справедливости ради надо сказать, что и слушал невнимательно и перебаливал плохо.
Всё когда-то кончается. Закончились и наставления моего друга. Правда, закончились они не сразу и не в его доме, а уже после нашего расставания. Деревня Амосовка, Курск и Москва, а с ними и вся родная Россия, остались далеко позади.
Впереди меня ожидала Франция и её столица - Париж.
ГЛАВА ПЯТАЯ. «Парижские тайны»
«Не будь слишком строг, и не выставляй себя слишком мудрым; зачем тебе губить себя?»
(Книга Екклесиаста или Проповедника. 7. 16).
Без подарка в Париже появляться не хотелось. Денег, понятное дело, в обрез. И всё ж таки, не хотелось. По своей гриппозности, а так пуще того, по дилетантству, прикупил я в Шереметьево красные розы. Потратился почти до последней копейки. Но это не беда. С этими розами я и появился в аэропорту имени Шарля де Голя [346]. Аэропорт – ничего.
Свиду понравился.
Отец Вениамин встретил меня вместе со своей благоверной супругой - матушкой Ольгой. Встретили очень тепло и радушно. Потом я узнал, что такая семейная встреча означала начало приёма по высшему разряду и никак не иначе. Услышав о моём гриппе, отец Вениамин тут же сразу подсуетился и накупил кучу разных лекарств. А затем, прямо в машине, начал умело лечить меня от этой болезни.
Отец Вениамин проживал с матушкой Ольгой в одном из ближайших предместий Парижа, с ничего не говорящим мне названием – Вильмуассон [347]. Если рассматривать это предместье через призму нашего Подмосковья или даже областных пригородов, то оно не дотягивало и до коттеджного посёлка среднего уровня. Но и заметной бедностью от Вильмуассона тоже не веяло.
В Париж мы не заезжали. Столицу объехали стороной, по касательной. Сначала вдоль дороги шли ухоженные поля. Потом пошли небольшие посёлки или местные деревушки. В общем, ничего особенного, если бы не одно, удивившее меня обстоятельство – за всю дорогу я не увидел ни одной живой души. Ни справа, ни слева. Словно повымерли все.
Одни лишь машины, машины, машины…
Отец Вениамин и матушка Ольга о чём-то постоянно говорили и о чём-то меня спрашивали. Я отвечал и старался быть на высоте. Но грипп там меня придавил, что теперь уж и не припомню, о чём шёл, тот дорожный разговор и как мы доехали. А вот встретившего нас у ворот верного пса - Урагана - я запомнил хорошо. Огромный и умный кобель производил неизгладимое впечатление. Хозяйская преданность и удивительный ум Урагана читались во всём его поведении и взгляде.
Домик и небольшая усадьба четы Жуковых, роскошью или какой-то архитектурно-планировочной помпезностью, в глаза не бросались. Скорее наоборот, всё чистенько и предельно скромно. Внутри - домовой храм. При чём, Ураган так приучен, что заходить в храм даже и не помышляет. Он чётко знает своё место. И дальше порога, ни ногой, в смысле – лапой.
Планировку комнат или их поэтажное расположение я не чётко запомнил. Отец Вениамин сразу же отвёл меня на последний, третий этаж и показал комнату со всеми удобствами, где мне предстояло жить и если Бог даст, выздоравливать. Не иначе, как из экономии в доме не топилось. И поэтому тоже, меня всё время трясло и ощутимо знобило. Без всяких выводов и аналогий, всплыло в памяти посещение архиепископа Лазаря в Дальнике. Картина вырисовывалась тревожная. Со здоровьем творилось неладное, не хотелось ни думать, ни верить, что оно о чём-то предупреждало.
О самом отце Вениамине Жукове я знал не так много. Всё больше, по рассказам владыки Виктора и отца Валерия Рожнова. Мне было известно, что он сын царского офицера и что дослужился во Франции до большой должности. Ещё я знал, что отец Вениамин перешёл в РПЦЗ из евлогианского раскола, что является последовательным учеником архиепископа Антония (Бартошевич) Женевского. И что служит теперь в Париже. Вот и вся скудная информация с небольшими упущениями и вариациями.
Гораздо больше было известно о его нынешней роли в Церкви. О его последних чаяниях и делах. Свиду отец Вениамин выглядел по-мужицки простецки и совсем уж обыкновенно. В постоянной и неброской одежде. С короткой седоватой бородкой на приятном и всё ещё далеко не старческом лице. При разговоре он очень внимателен и добр к собеседнику. Слова на ветер и попусту не бросает, хотя, при случае, не прочь пошутить или сказать глубокомысленное и интересное слово.
Но всё это на поверхности.
И оно видно почти каждому, пусть даже и случайному человеку.
Если же посмотреть на отца Вениамина глубже, посмотреть чуточку пристальней и внимательней, то есть, как бы, со стороны, то можно увидеть и нечто иное. Вот это иное, уже дано увидеть далеко не каждому наблюдателю. Ибо, отец Вениамин умеет его хорошо скрывать.
Впрочем, не так и хорошо, коль и я заприметил.
На самом же деле, внешнее состояние отца Вениамина, это состояние резидента разведки. Состояние опытного и старого театрала. Внешне он не живёт, а постоянно играет. Как играет, это уже другой вопрос. Если вы игру не заметили или же не ощутили, значит, он играет хорошо. Значит, вошёл в роль. А если заметили или ощутили, то играет не очень убедительно.
Играет провально.
Есть такое русское понятие о человеке, когда о нём говорят: «сам себе на уме». Не уверен, точно ли подходит это понятие к отцу Вениамину, но то, что он живёт двойной жизнью, это, несомненно, так. До Парижской встречи - редко, а после неё – чаще, мне доводилось слышать о его, якобы, масонстве. Я всегда спорил с носителями такой информации, аргументируя, строя и подтверждая свою позицию не домыслами или же слухами, а нынешними делами отца Вениамина. Мне, да и не только мне, отец Вениамин казался одним из столпов Церкви. Казался Её воссоздателем и оберегателем.
По делам его, так оно и было [348].
Тогда все доводы о масонстве выглядели неуместными, а то и просто смешными. Уже значительно позже, я стал серьёзней задумываться на эту тему, пытаясь пересмотреть свою позицию. И скажу откровенно, к однозначному выводу я так и не пришёл. Понятно, что, будучи в гостях, да ещё и на епископских смотринах, о масонстве «всесильного» хозяина думать невозможно.
О том и не думал.
В первые французские дни болезнь не отступала. Мало найдётся людей так ни разу и не переболевших гриппом. Хорошо известно, как грипп медленно отступает. А когда и отступит, долго ещё человек не может от него оправиться. И это при том, если грипп прошёл без осложнений. А если же с осложнениями, то это всё равно, что болеть по новому кругу.
Слава Богу, я выкарабкивался из гриппа без осложнений.
В моей комнате стоял шкаф с книгами на французском языке. Я брал эти книги в руки. Открывал их и пробовал что-то понять. По редким картинкам, что-то и понимал. И всё же, скука меня донимала. Я почти всё время находился наверху. Спускался вниз лишь по зову отца Вениамина. Кухню хозяева предложили русскую. Но аппетита у меня никакого. Ел очень мало. Во время еды ни о чём не разговаривал. Заметил, что своей вынужденной аскезой потихоньку начинаю нравиться отцу Вениамину.
Матушка Ольга внешне очень здорово походила на мою родную мать. Вначале, я даже растерялся. Когда же я ей об этом сказал, понял, что лучше бы промолчал. Сравнение матушке Ольге совсем не понравилось. И трудно сказать, почему.
Я помнил все наставления отца Валерия. Да, толку-то. Характер сиюминутно не перестроишь. И нравиться я не умею. Как только болезнь начала отползать, слов в моём лексиконе заметно прибавилось. За трапезным столом теперь можно было слышать уже не одного лишь только хозяина. Ничего особенного или нового я не говорил. Высказывал нашу позицию по церковному строительству в России.
То есть, позицию владыки Виктора и мою.
Отец Вениамин настаивал на осторожных поступях. Часто повторяя известный тезис: «держи, что имеешь». Нас такая медлительность секретаря Архиерейского Синода не устраивала. Она нам казалась смерти подобной. О чём я, по простоте своей, открыто отцу Вениамину и заявлял. Заявлял без всякого подобострастия к его секретарству, положению в Церкви и без лишней дипломатии.
Забыв про предпарижские кущи, говорил с ним так же, как и в российской глубинке говорят с обыкновенным простым человеком.
Одним словом, резал правду-матку в глаза.
И это ничего. Отца Вениамина пыл молодого иеромонаха не смутил. Хотя человек он, конечно же, не из нашей глубинки, а всё же навидался на своём веку всякого и всяких. Одним человеком больше, одним меньше. Не суть важно. В пылу разговоров я и не заметил, как отец Вениамин стал тонко и довольно-таки умело прощупывать меня на тему личной преданности и управляемости. Если бы он прямо тогда заявил о включении меня в свою команду, Бог весть, как бы оно всё обернулось и обошлось.
Тонкой дипломатии отца Вениамина я не то, что не чувствовал, я её просто не понимал. Для тонкой дипломатии, а тем паче, для её понимания, у меня не имелось ни опыта закулисных интриг, ни соответствующего благородного воспитания и ничего остального. Отец Вениамин просчитался в одном, в том, что я - человек русский. Да, с советским воспитанием, но - человек русский и, в отличие от зарубежников, всё ещё не оторванный от святоотеческих русских корней.
С каждым новым днём вёл я себя всё свободней и свободней. Болезнь медленно уходила. И я постепенно просыпался к жизни. Неважно, какой. Епископской там или же иеромонашеской. Ураган меня признал за настоящего человека.
И это нас обоих сблизило и несказанно обрадовало.
Чуть позже, отец Вениамин показал мне Париж и познакомил со своим зятем – бароном. Не боясь оскорбить чувства парижан и им сочувствующим, прямо скажу – Париж мне не понравился. Париж меня разочаровал. Москва - в тысячу раз милее и краше. Эйфелева башня показалась кучей ржавого железа и только. Таковой она и была. Булонский лес! Господи! Да у меня за окном полевая лесополоса гуще и чище этого леса. Если раньше я знал Париж по книгам и фильмам, и романтика, вкупе с парижской идиллией, била из меня ключом, то теперь всё изменилось. Я воочию увидел и на своей шкуре убедился, что Франция и её столица – город Париж, всё это, по слову святого Екклесиаста - суета сует.
А если, сказать проще [349] – не стоит овчинка выделки.
Николай - один из зятёв отца Вениамина, - человек образованный. Барон. Знает множество языков и до недавнего времени, ходил в секретарях у одной японской миллиардерши. А после её смерти не может найти себе достойную работу.
Я его спросил.
- Сколько стоит ваш дом?
- Примерно, восемьсот тысяч евро.
- И что вам мешает его продать и переехать на постоянное жительство в Россию?
- Ничего не мешает, - тут же нашёлся с ответом барон.
- Тогда, почему вы так не поступаете?
- Не знаю. А что бы это поменяло?
- Трудно сказать о Москве и Петербурге, там я не жил и обстановки не знаю, а в Воронеже вы бы могли купить на эти деньги прекрасное жильё. Положить сдачу в банк и всю оставшуюся жизнь жить безбедно на одни лишь проценты. Продовольствие у нас вкуснее и дешевле. Воздух чище. А природа прекрасней. Не говоря уже обо всём остальном. Да и с работой, учитывая ваше знание языков, проблем бы никаких не возникло.
Николай серьёзно задумался, но больше на эту тему ничего не сказал.
Храм отца Вениамина мне понравился. В нём я дважды служил. И один раз наверху ночевал. Ночевал, как раз, в той самой келье, которая, когда-то, принадлежала архиепископу Иоанну Шанхайскому. Сидел на его кресле. Представлял его поведение. Одним словом, прочувствовался до глубины души. Мне показалось, что и я, при своей немощи, причастен к чему-то особенному и святому.
В храме я близко познакомился со старостой Павлом, чтецом Григорием, продавцом книг Владимиром Кирилловым и некоторыми другими постоянными прихожанами. О старосте Павле (тоже, кстати, бароне), сказать нечто определённое затрудняюсь. Он выглядел человеком добрым и любвеобильным. Владимир Кириллов обозначился немного позднее. Правда, он и тогда подошёл ко мне со своим разговором, однако разговора у нас не получилось. А вот чтец Григорий, даже, несмотря на своё еврейское происхождение, показался мне наиболее интересным человеком.
Посудите сами.
Сам он родом из Екатеринбурга. Математик. Закончил в Екатеринбурге университет. Принял православие. Женился на скромной русской женщине. Имеет от неё троих детей. В период ельцинской неразберихи, вместе со всем своим семейством, устроил велопробег от Екатеринбурга до Франции. После чего, прибыв на русском велосипеде во французский Париж, в нём же и остался. Интересно, почему он не поехал в Израиль – в землю обетованную? Для меня это так и осталось неразрешимой загадкой. Местные евреи ему помогли с работой. И на этом всё. Дальше их помощь забуксовала. Жена безработная, а он и уже который год, преподаёт математику в одном из парижских колледжей. Ни квартиры, ни дома у его семьи нет. Живут в автомобильном прицепе, где-то в ста километрах от Парижа. И перебиваются с хлеба на квас. Спрашивается, стоило ли сюда, да ещё и с такими трудами, добираться, чтобы так жить? Я Григория прямо об этом спросил. Однако ответа от него не дождался. Что ж, вольному воля и каждому своё.
Может оно даже и к лучшему.
Жаль только, что за Григорием не последовали и все остальные его соплеменники. Пример оказался не заразительный.
И исхода не получилось.
А так хотелось бы [350].
Из тех 2700 евро, что скапливается по бумаге в его семье, на руках остаётся лишь 200 – 300. Остальные деньги уходят на оплату налога, коммунальных и прочих услуг. В России, на эти деньги, ещё можно безбедно прожить. Но как они живут на эти копейки во Франции? Ума не приложу. Там же всё значительно дороже и всё не в рублях, а в европейской валюте. Не поэтому ли некоторые парижские прихожане посещают храм ради братской трапезы? То есть ради хлеба насущного.
Парижане люди замкнутые и малообщительные, живущие в придуманном ими мирке. Вымирание и деградация коснулась и французов. На улицах встречается много негров и арабов. Как мне сказали, только в одном Париже действуют более пятидесяти мечетей. Франция (как и вся Западная Европа) превратилась в полуисламскую страну. Кому-то очень выгодна активная исламизация Старого Света. И если бы только одна исламизация. Каких здесь конфессий и не встретишь. В загоне лишь те, кто, хоть, как-то, ещё верует во Христа. А всем остальным предоставлена зелёная улица.
Масонское законодательное собрание Франции запретило открытое ношение крестов с распятием. Это ж надо до такого додуматься! А я всё думал над вопросом: «почему это отец Вениамин постоянно ходит без священнического креста?».
Оказывается, вот оно, почему.
Довелось мне посмотреть и увидеть, как же живут простые парижане. Это случилось при освящении квартир. Что сказать. Живут не по-русски. Не по-нашенски. Нашего духа и тепла в их жилищах нет и в помине. Бросается в глаза много строительной пластмассы и иной синтетики. В квартирах весьма неуютно и со всех углов тянет какой-то нежитью.
Дело не в бедности.
Дома мне приходилось много освящать домов и квартир. Разных. И бедных и богатых. Есть с чем сравнить. У нас любая бабушка живёт чище и опрятней. Пусть и беднее. Но зайдёшь в её домик или квартирку, и сразу чувствуется уют и домашнее тепло. И иконочки там, где положено, на Святом углу. И коврики чистенькие на полу. Синтетики – никакой. Глаза у бабушки светятся смирением и любовью. И она, бедная, готова тебе отдать всё самое последнее и самое дорогое, а тем, глядишь, сподобиться и награды Небесной. Так она, родная, мыслит и думает. И по-другому мыслить не может. Одним словом…
Живая душа!
До моего возвращения в Россию оставалось ещё много времени. И мы успели о многом переговорить с отцом Вениамином. С высоты своего положения батюшка поглядывал на меня свысока. Но поглядывал не внешне, а, как бы, изнутри самого себя. С чисто же внешней стороны, он старался своего превосходства (если хотите, барства) не показывать и ничем его не выдавать. Однако я хорошо чувствовал границу. И прекрасно видел его высоту. И не считал её такой уж излишней или очень надуманной. Авторитет секретаря Архиерейского Синода был прочен и непререкаем.
Кто он? И кто я?
Эту разницу я хорошо понимал. И при всех наших разговорах, принимал её, как должное и даже обязательное условие. Я его со смирением и без лишних слов учитывал, делая поправку; на высокое положение, безспорные церковные заслуги и на преклонный возраст отца Вениамина. При всём сказанном, надо учесть ещё и то, что ни владыка Виктор, ни я, в то время, не видели в отце Вениамине церковного узурпатора (серого кардинала), тонкого интригана и нашего будущего достойного противника. Я, так уж, точно не видел. До этого окаянного времени, всем нам, ещё только предстояло дожить.
Одно было плохо.
Бросалась в глаза и резала душу унизительная человеческая второсортица. И не только лично моя. Как я потом убедился, русских людей на Западе за равных себе не считают. То есть, нас полагают людьми второсортными. Почти, как евреи, без малого факта, считают за гоев. И не только русских, а, пожалуй и всех людей, прибывающих из постсоветской России.
Всех людей.
Без разбору. Им всё равно. Русский ты, казах ли, чуваш или ещё, кто. Если вначале у меня ещё и имелись какие-то сомнения на этот счёт, то позднее и они отпали. Второсортица – пренепреятнейшее ощущение. Ощущение такое, словно на тебе несмываемое клеймо. И оно всем видно издалека. Хочется его рукою потрогать. Только, где оно? Не на лбу ли уже? Будто ты рождённый рабом и нет у тебя никакого права на возвышение, или, хотя бы, надежды на равность.
Сословное происхождение здесь ни причём. Для западников неважно твоё сословное происхождение, иерархическое положение…
Будь ты, хоть, трижды бароном иль графом. Для них важно одно - что родом ты из постсоветской, из недочеловечной России.
И этим всё сказано.
Я долго думал об истоках этой мнимой и пресловутой второсортицы. Долго ломал над ней голову. И знаете, пришёл к интересным выводам. На протяжении многих десятилетий жидо-масонская пропаганда так умело и так последовательно «свихивала» мозги своим гражданам, вдалбливая им денно и нощно о нашей советской, а потом и постсоветской ущербности, что почти все зарубежники поверили и приняли эту фальшивку за чистую монету. Приняли за правду. Справедливости ради, следует отметить, что и мы, вчерашние советские граждане, вырвавшиеся за границу и вволю наглотавшиеся свежего «свободного» воздуха, здорово поспособствовали утверждению этой подложной и умело выполненной фальшивки.
Поспособствовали своим поведением, «культурой», не принятой на Западе открытостью в общении с незнакомыми или мало знакомыми людьми и тому подобное. Спору нет, ущербность у нас присутствует. Есть такой грешок. Ибо, кто же из нас без греха? Но она нисколько не больше ущербности западной, ущербности русских зарубежников. И западные и восточные люди – отличны друг от друга. Отличаемся мы мировоззрением, менталитетом, бытовыми моментами…
Мы разные во многих отношениях.
Но сказать, что лишь только одни мы – второсортица – неправильно и даже греховно. На Западе нам этого и не говорят. Не говорят и никогда не скажут. Знаете, воспитание не то, культура не та, чтобы взять и вот так, прямо в лицо и чисто, по-русски, сказать. Они поступают хуже. Поступают исподтишка. Они дают нам тонко (или не очень) понять, что мы – второсортица. А это уже совсем другое, более презрительное, а, следовательно, и гораздо более унизительное и обидное дело.
Если помыслить в этом направлении дальше, то можно ответить и на многие другие застарелые вопросы. Ответить самому себе. А на большее я и не претендую. Сегодня много пишут и говорят о причинах поражения Белого движения. Указывают на предательство вождей. При чём, указывают на предательство двоякого рода - царя и русского народа. Указывают на отсутствие церковного благословения. На демократические лозунги. На безталантное управление.
И ещё на многое другое.
И с этими доводами трудно не согласиться. Так оно и было на самом деле. Только во всём этом спектре причин не достаёт и ещё одной, и, на мой взгляд, совсем немаловажной пораженческой причины – презрение, пренебрежение и как следствие, недооценка противника. Как мы помним из нашей истории, в войне к противнику можно относиться, как угодно – плохо ли, хорошо ли.
Отношение такое вполне допустимо и оно не смертельно.
Нельзя допускать одного – недооценки противника.
Так и в наше время. По инерции, что ли? Русская эмиграция ничуть не изменилась. Кто остался в советской и постсоветской России для них, пусть и подспудно, так и остались тем самым презренным и потенциальным противником [351].
И дай Бог, чтобы я ошибался.
Скажу больше.
Лично я считаю, что та школа и та жизнь, через которую и несмотря ни на что, прошли мы – советские и постсоветские люди, дала нам нужного и полезного несоизмеримо больше западной демократии. Она нас закалила. Сделала из нас не только верующих людей, но и исповедников. Показала, кто есть, кто. И показала, кто чего стоит. Вернула к нашим святоотеческим истокам и убедила в их неизменной святости и правоте. Помогла нам ответить на многие вопросы.
Всё в Божьей длани.
И нам неизвестен Промысел Божий. Это так. Но, неужто, во Франции (Испании, Англии, Германии, Португалии…), а не в России, начнётся возрождение православия и православной монархии? Кто в это поверит? Не поверит в это никто. Сегодня в воскрешение и возрождение России, и то, многим с трудом верится. А в воскрешение и возрождение Запада не верит никто. И даже не подумает поверить. Тогда, откуда весь этот снобизм? Откуда эта пресловутая западная, человеческая «первосортность»?
Явно, что не от Бога и не от высокого и ясного ума.
Отец Вениамин казался человеком разумным. В Церкви сделал он действительно много и многое. Но только и он не избежал своего врождённого (или уже привитого?) «первосорства». Не избежал невозможности не видеть в каждом, прибывающем из России человеке, потенциального агента силовых органов или разведывательных структур. Понятно, что за несколько лет «новой» жизни от шпиономании и оптического обмана трудно избавиться. Бдительность и осторожность, в каком-то смысле, даже похвальна. И она совсем не могла быть лишней, скажем, в советские годы. Однако когда на Запад хлынули миллионы русских людей, о какой такой бдительности или осторожности можно серьёзно думать и говорить?
Дьявол страшнее, чем его малюют.
Так то дьявол, а не человек!
А вот отец Николай Семёнов - совсем другой человек. Во всяком случае, таким другим он мне показался. Не в обиду, будь, сказано, намного проще и приятнее отца Вениамина. Самый настоящий русский человек. Нонсенс! Будто он вчера из России. И совсем неважно, какой. Люди с таким добрым и открытым характером у нас встречаются всегда и везде.
Отец Николай и отец Вениамин - большие друзья. И идут они вместе по жизни уже многие годы. Один во Франции, а другой в Бельгии. Расстояние и погода дружбе их ничуть не мешают. В мужской дружбе часто такое случается, когда один из друзей больше зависим от другого. По разным причинам. В силу характера, авторитета или ещё чего-то. Я и сам прошёл через точно такую же дружбу. И ничего в этом особенного или неприятного нет. Однако всё до поры и до времени. Отец Николай заметно зависим от отца Вениамина. И мне думается, что отец Вениамин, тонко и умело, и уже давно, пользуется этой зависимостью. И это тоже не страшно. Правда, при одном условии. Если пользуется с полного согласия отца Николая.
С первого взгляда полюбился мне этот батюшка. Приехал он повидаться из Бельгии. Отец Вениамин пригласил его на мои епископские смотрины. Жалею, что не пришлось с ним побыть подольше, как следует выпить русской водочки и по душам поговорить. Выпивали всё какую-то горлодёрную польскую самогонку. Вот тут-то я и вспомнил о своём промахе. О тех красных цветах, а не о нормальном русском презенте. Закуска тоже играет роль. Но, всё ж таки, вспомогательную, а не самую основную.
Не знаю, чей ученик отец Николай Семёнов. Такую широкую и открытую русскую душу сложно сузить и хоть, как-то, искривить. Отец же Вениамин Жуков - ученик архиепископа Антония Женевского. И при случае, он это любит подчёркивать. Очень высоко ценит человеческие и духовные качества своего покойного учителя. И, в общем-то, это нормально.
Ученик и должен чтить своего духовного отца и учителя.
Протодиакон Герман Иванов – Тринадцатый из Лиона утверждает, что архиепископ Антоний (Барташевич) - иудей. Я не знаю. Полагаю, что отцу протодиакону на месте виднее. В Церкви нет ни эллина, ни иудея. Так-то оно, так.
С Апостолом никто и не спорит.
И всё же, дела архиепископа Антония (Бартошевич) говорят сами за себя. Дела его выглядят разрушительными. Кто-то может, возражая спросить, а не по Промыслу ли Божьему [352] он помогал отвеивать Евангельские плевелы от зёрен, хиротонисая во епископа: Марка (Арндта), Варнаву (Прокофьева), а через Варнаву - Лазаря (Журбенко) и так далее, по цепочке? А как же тогда быть с его длительным и упорным стоянием против святого архиепископа Иоанна Шанхайского?
Спросить-то можно…
Только отвечайте на эти вопросы сами. Если хорошенько подумать и разобраться, то вопросы не такие и сложные.
Отец Вениамин страшно не любит советчиков [353]. Особенно тех, кто лезет в душу и советует не спрашиваясь. Есть у нас и такие советчики. И их достаточно много. Впрочем, для раздражения хватит и одного «всезнающего» человека. Опыт приходит с годами. И теперь я гораздо лучше понимаю отца Вениамина. И нисколько не осуждаю его за эту человеческую немощь.
Потому, как и сам немощный.
Секретарю Архиерейского Синода РПЦЗ (В) достался один из самых тяжёлых крестов в Церкви. Это верно. Нести такую тяжесть невероятно трудно. Помощников мало, а мешающих много. Мешали противники и недоброжелатели. Годы и болезни мешали. И со временем легче не становилось. Однако, несмотря ни на что, отец Вениамин с тяжёлой ношей справлялся. Помогали и прошлый управленческий опыт. И быстрая и умелая реакция на различные церковные нестроения и рецидивы.
Помогали и серьёзные церковно-канонические знания.
Если раньше на отца Вениамина редко обращали внимание, то теперь стали обращать внимания больше. Вместе с церковным возрастанием, секретарь Синода втягивался в орбиту известности, а, следовательно, и в орбиту более жёсткой критики. Критику отец Вениамин не отвергал. Он внимательно её отслеживал. К ней прислушивался и, постепенно привыкая, ценил.
На первых порах, критика ему не слишком мешала. Имелись раздражители посерьёзней. В виде непрошеных советчиков. «Генераторов» церковных идей, вроде владыки Виктора и меня. И этих раздражителей тоже ещё можно было терпеть. На первом же месте у отца Вениамина стояла борьба со своими вчерашними соратниками и единомышленниками. За бортом Церкви остались: протопресвитер Виктор Мелехов, протодиакон Герман Иванов – Тринадцатый, архиепископ Варнава…
В очередь торопливо выстраивался «строптивый и глупый буквоед» с Дальнего Востока - епископ Анастасий (Суржик).
В борьбе с ним владыка Виктор мог сыграть [354] не последнюю роль. В случае необходимости, мог что-то толковое написать в СМИ. Мог ощутимо помочь на предстоящем Архиерейском Соборе. И отец Вениамин, как хитрый и умелый стратег, вынашивая далеко идущие планы и плетя свою паутину, тех людей, которые могли ему ещё пригодиться, со счетов сбрасывать не торопился. Он прекрасно понимал, что, на нашем безлюдье, с этим ещё успеется. Как говорится - всему своё время. Бог даст, наступит и оно. Пока же он скрупулёзно собирал информацию обо всех (даже и о своих гипотетических противниках) и аккуратно раскладывал её по своим полочкам. Письмецо к письмецу. Ананимочка к ананимочке. Информация кушать не просит. Пусть себе лежит до поры и до времени. Когда же она потребуется, то далеко ходить за нею не надо.
Всё давно схвачено и находится в надёжном месте, и под умелой рукой.
Одно сильно угнетало секретаря Архиерейского Синода - Людмила Дмитриевна Роснянская. Тоже секретарь. И даже намного больше. Личный секретарь и душеприказчик митрополита Виталия. И всё бы ничего, если бы секретарь был не в юбке, а в брюках. С женщиной же, да ещё с такой, как Людмила Дмитриевна Роснянская, общего языка найти почти невозможно. Отец Вениамин нашёл. Но это «почти» держалось на тонюсенькой ниточке. И в любой момент, по капризу Людмилы Дмитриевны, ниточка могла оборваться.
Такое положение дел секретаря Архиерейского Синода устраивать не могло. Налицо явное неканоническое положение. И что же делать? А делать ничего не остаётся. Остаётся только одно - стиснуть покрепче зубы и терпеть, терпеть, терпеть…
Любую бумагу за подписью митрополита Виталия приходилось выпрашивать у ненавистной Людмилы Дмитриевны, едва ли не со слезами на глазах. В ход пускалось всё. И лесть. И небольшие презенты. И подходы со стороны. И всё, что угодно. Отцу Вениамину так это всё надоело, что скрывать своё отношение к этой вздорной и пустой женщине он уже просто не мог. Мужская солидарность побеждала. И отец Вениамин всегда получал необходимое сочувствие.
Меня он уже «раскусил». По крайней мере, так казалось отцу Вениамину. Наслушавшись обо мне положительной информации, секретарь Синода, без всяких обиняков, отложил её в сторону. И отложил без сожаления, и колебаний. Оставил её на память отцу Валерию Рожнову, владыке Виктору или ещё там кому-то. Он понял главное. Понял, что человек я слишком свободный и слишком прямой. А, стало быть, человек малоуправляемый. Непредсказуемый. Поэтому, я и не смогу ему пригодиться в ближайшее время. Чтобы «плясать» под его дудку требовалась длительная коррекция.
И ещё неизвестно, стоило ли со мною долго возиться.
Скорее - нет, чем – да.
Свиду отношение ко мне не переменилось. Оно оставалось таким же, как и прежде – наигранно театральным. Однако почувствовать факт принятия решения (момент истины!) не составляло большого труда. И его качество никакого дополнительного рентгена не требовало.
Приближалось время отъезда.
Вот тогда-то и приехал из Бельгии благодушный отец Николай Семёнов. Он сразу же кинулся ко мне с распростёртыми объятиями и открытой душой. И ничего необычного в этом нет. Души-то у нас с ним одинаковые. Отец Вениамин сделал попытку его остановить. Я-то эту попытку заметил. А вот бедный отец Николай – нет. Он не понял своего друга. Лишь при повторном одёргивании до него дошло. И он, наконец, понял всё. Отец Николай жалко и извинительно скуксился.
И вот тогда-то и началась их двойная игра.
Я смотрел со стороны на этих двух заслуженных (или, как потом стали говорить – маститых) протоиереев РПЦЗ (В), смотрел на убелённых сединой батюшек, на их паясничество и мне становилось не столько противно, сколько стыдно за них и брезгливо. Я понял, что эти люди ничего и никогда не смогут выиграть. И что никогда они не скажут до конца правды. Так и будут жить своей игрой. Своей полуправдой. И держать в руках то, что ещё есть и что ещё держится. А ведь передо мной находились лучшие представители русского зарубежья! Былая слава её и цвет! Или уже пустоцветие?
Что же тогда говорить обо всех остальных?
Как-то, отец Вениамин, пригласил меня в свой рабочий кабинет и, показывая рукой на многочисленные полки с документами и дискетными записями, сказал.
- Видишь сколько всего. Я становлюсь старым. Часто болею. Давно ушёл бы на покой, только не знаю, кому это всё передать. Может тебе?
- Мне не надо, отче. Я за границей жить не смогу. Домой давно уже хочется. Да и на компьютере я не умею работать.
- Компьютер не трудно освоить.
На том наш разговор и закончился. Случился он ещё до принятия решения. Я пошёл играть с, заглянувшим в открытые двери, Ураганом, а отец Вениамин остался в своём кабинете.
Находясь в Париже, мне всё время не давала покоя одна вопросительная мысль: «почему бы ни перевести управление РПЦЗ (В) во Францию?». Всё ж таки, поближе к России. В обеих Америках мало приходов. Неудобства с канадскими визами. Дальние перелёты через океан. Трата лишних денег. А во Франции всё под боком. И главное, есть, где удобно разместиться. Было бы только желание и решение Собора. Я спросил отца Вениамина. Спросил о его мнении на этот счёт.
- На перевод Синодального управления во Францию потребуется слишком много средств. Да и Людмила Дмитриевна не захочет переезжать, - ответил мне батюшка.
- А сам бы митрополит Виталий не отказался?
Отец Вениамин посмотрел на меня, как на полуумка и ничего не ответил. Тогда я ещё не знал, что митрополит Виталий давно уже собой не распоряжается и всегда поступает, как того хочет Людмила Роснянская. Так сложилось не потому, что в Церкви, кроме госпожи Роснянской, больше никого не нашлось секретарствовать и ухаживать за престарелым митрополитом Виталием. Так сложилось потому, что митрополит Виталий сам того пожелал. И кроме Людмилы Дмитриевны, видеть возле себя никого не хотел. Непонятно, почему? Неправда ли? То ли бес в ребро, то ли старческая прихоть или каприз.
Судить я не берусь.
Да и вы не судите.
Ещё сохранилось в памяти то время, когда об отце Вениамине Жукове довольно много говорили и писали в церковных изданиях и мирских электронных журналах. В том числе, высказывался о нём и автор этих строк. То время безвозвратно кануло в лету. И его уже назад не воротишь. Хотя и хотелось бы. Наступила пора более глубокого анализа и переосмысления. Есть смысл теперь посмотреть на произошедшие разделения и отпадения от Церкви под иным углом зрения.
Как один из вариантов, приходит в голову следующее:
Возможно, что секретарь Архиерейского Синода РПЦЗ (В), получив в свои руки власть, постепенно начал привыкать к этой власти. Привыкать к своему исключительному положению в Церкви. Пусть власть у него сконцентрировалась и не над многими людьми. Но, всё ж таки, власть. Тут, уж, какая ни есть. Вначале из присущей ему осторожности, а дальше и по своей немощи, отец Вениамин начал подбирать себе команду из наиболее преданных ему людей.
То есть, свой мирской управленческий опыт он стал переносить и на Церковь. Вольно или же невольно, это уже другой вопрос. При чём, действуя таким образом, чтобы самому оставаться в тени. Очень удобная позиция. Позиция - марионеточная. Послушные архиереи. Послушный Синод и Собор. Первоиерарху отведена почётная, но чисто декоративная роль. Все реальные нити управления проходят только через секретаря Синода. У него в руках они и задерживаются. Остаётся лишь одно – дёргать за верёвочки. Отец Вениамин их и дёргал. Отсюда и известная, вырвавшаяся из его уст крикливая фраза: «Синод это я!». Фраза далеко не случайная. Фраза правильная. Ибо, по существу, так оно и было на самом деле.
Казалось бы, всё учёл митрофорный протоиерей. Ан – нет. Несмотря на всю свою опытность и недюжинный ум, не учёл он – гордыни и немощи человеческой. Архиереям начинала не нравиться его вездесущстность. Первым проявился с этим архиепископ Варнава. За ним начал выказывать недовольство епископ Анастасий, а спустя год и владыка Виктор вместе с архиепископом Антонием (Орловым) забили тревогу. Последним откололся от отца Вениамина епископ Владимир (Целищев) [355]. Остался верен своему патрону один лишь епископ Антоний (Рудей) из Молдовы [356].
Нетерпимость к инакомыслию [357], возведённая в ранг церковного предательства, исключительное право на истину в последней инстанции и прямо-таки, какая-то маниакальная хватка за бразды управления, и ещё многое и многое другое не позволили отцу Вениамину вовремя остановиться и успокоиться. Я не утверждаю, что отдай он бразды управления в иные руки, ничего бы не случилось и ничего бы не произошло. Произошло бы. И уже потихоньку происходило. Однако полагаю, что церковный раскол отодвинулся бы на какое-то время. А там, Бог знает, как бы оно дальше пошло.
Другой вариант масонский.
Если сработал он, то тогда многое понятно и объяснять ничего не следует. Бог даст, ниже я ещё вернусь к этой теме.
А пока же я с нетерпением готовился покинуть столицу Франции. Щедрый хозяин, не без труда, впихнул мне в руку двести французских рублей. Я их взял, но с тем лишь условием, что оставлю эти деньги не у себя, а передам их в Санкт-Петербурге Ольге Ивановне Никитиной. У неё, как раз, горе случилось. Умер супруг. И мне хотелось ей уделить внимание и хоть чем-то, помочь. Двести евро – деньги не очень большие. Но в Питере они бы ей лишними не показались [358].
Я простился с матушкой Ольгой и верным Ураганом. В машине к нам присоединился отец Николай. И в аэропорт мы отправились втроём. Батюшки между собой лениво переговаривались. В дороге мне разговаривать не хотелось. Но дабы поддержать имидж хозяина и наметившийся им же прощальный тонус, о чём-то и я говорил. Болезнь почти что прошла. Так что разговаривать было удобно. Хотя мыслями я уже давно находился не во Франции, а в любимой России.
Оставалось дело за малым – переместиться туда и физически.
Справа и слева мелькали унылые пейзажи. Потоки машин тянулись туда и сюда. Я сидел на заднем сиденье и украдкой посматривал на часы, боясь опоздать на свой рейс до Москвы.
В аэропорту мы охотно пообщались с двумя сербскими епископами. Они прилетели во Францию с лекциями для, не помню, какого, уж, университета. Оба прекрасно говорят по-русски. Увидев мой иеромонашеский крест, выставили и они свои панагии. Как ни странно, сблизило и разговорило нас не только причастие к нашей единой вере, но и наше племенное родство. Я впервые разговаривал с братьями по крови – сербами и удивлялся их высокой культурности и правильному произношению.
Сербы торопились.
Мы тепло попрощались, чтобы расстаться до конца дней своих. И всё же, память о них не выветрилась, а осталась.
Отец Николай предложил ещё зайти в кафе, чтобы до регистрации рейса скоротать там время, а заодно и выпить на прощание по чашечке горячего кофе. Но отец Вениамин его идею, почему-то, не поддержал. Дело прошлое. Чего уж там. И всё же, я бы тогда от чашечки горячего кофе не отказался. Не отказался бы и присесть на дальнюю дорожку, и по русскому обычаю, о чём-то важном помолчать.
Объявили регистрацию. Мы простенько попрощались. Уже издалека я их перекрестил. Помахал рукой. И улетел в Россию. А они остались в своих странах. Отец Вениамин во Франции. А отец Николай в Бельгии. По мне, так, что Франция, что Бельгия – одно и тоже. А батюшкам не одно и тоже. Батюшкам – Родина. Я не оговорился. Не Россия. А именно эти страны. А если и не эти, так другие. Какие? Да, какие угодно. Без разницы. Но только не Россия. Россия выпала для меня окаянного, а не для них. Не знаю, как они. А я так ни о чём не жалею. Даже более того. Я очень рад, что мне выпало такое счастье - родиться и вырасти не во Франции или где-то там ещё, а именно в России. Советской, постсоветской…
Это всё не Божье, а человеческое. По грехам и отступлениям нашим. Землю же, как ты её родимую не называй, а она была и останется святоотеческой, а её малое стадо Христово – Русью Святой. На том и стоим. И с Божьей помощью, и стоять будем.
Пока ещё дышится.
+ + +
Полезному делу, мастерству или навыкам незазорно поучиться и у врагов. А у своих братьев во Христе - поучиться и Сам Бог велел. Как бы там ни было, но улетал я домой в приподнятом настроении. Мне не в чем и не перед кем было оправдываться. Ни раньше, ни в обозримом будущем, я не видел себя епископом. Идея эта исходила не от меня.
И принимал я её по послушанию.
Неудача на показательном поприще обернулась удачей другого рода. Во Франции мне открылось понятие инертности церковного строительства РПЦЗ (В). Я теперь отчётливо видел её причины, а, следовательно, и истоки неприятия наших чаяний и надежд. Изменить ничего нельзя. Так чего же тогда печалиться? Отец Вениамин врагом для меня не стал и отношение к нему, в общем-то, не изменилось. И мы, ведь - не без своей человеческой специфики и непонятности. Но, не мы им указываем. А они нам. Так сложилось исторически. Мы пришли значительно позднее. Они уже давно были в РПЦЗ. И не самыми последними. А виднее им или же нет? Этот вопрос интересует и волнует только нас. Поэтому и предстоит нам жить дальше, ничего не меняя. Жить, по всё той же самой пословице, это, когда: «яйца курицу не учат».
В самолёте я размышлял о своём будущем и пытался прогнозировать реакцию на отрицательный результат. Владыке Виктору и отцу Валерию Рожнову результат моего вояжа в Париж не понравится. Однако реакция их окажется разной. Отец Валерий смимикрирует и успокоится. Для него это не слишком большая проблема. И не в первый раз мимикрировать. А вот владыка Виктор затаит обиду на отца Вениамина. И моя задача попытаться её снивилировать. А если получится, то и свести обиду до минимума. Владыка становился всё более и более самостоятельным. Он попробовал вкус авторской популярности. И она ему понравилась. Успел почувствовать не только бремя, но и силу архиерейской власти. Секретарь Архиерейского Синода РПЦЗ (В) для него теперь не столь значимая фигура, как прежде.
Это с одной стороны.
С другой же стороны - отцу Вениамину идти на прямой и открытый конфликт сразу с двумя архиереями, крайне невыгодно. Да, ещё и из-за такой мелочи, как я. Владыка Виктор ему пока нужен. И в борьбе с епископом Анастасием, он имеет определённые виды и рассчитывает на него. Следовательно, открытый и прямой конфликт отпадает. Скорее всего, отец Вениамин предпочтёт вести тонкую дипломатическую игру. И напрямую, ни отцу Валерию, ни владыке Виктору о принятом решении не скажет. Начнёт отшучиваться, уводить разговор в сторону, говорить неопределённо и непонятно…
Он этому давно научился и хорошо это умеет делать.
Владыка Виктор быстро раскусит его хитрость и тут же затаит большую обиду. Затаит, даже не потому, что секретарь Синода не согласился на мою хиротонию. Нет, не поэтому. Эка, невидаль. Тут не во мне дело. Для владыки Виктора я, всего лишь, очередная «ступенька» и невеликая «птица» [359]. Обида лежит совсем в другой плоскости. Своим отказом отец Вениамин задел его возросшее до небес самолюбие. Задел за самое больное и уязвимое место. Митрофорный протоиерей его не послушал. Проигнорировал просьбу о помощи. Поступил по-своему.
И тем самым, поставил себя выше правящего архиерея.
Вот в этом-то и вся обидная загвоздочка.
Опыт общения с русскими парижанами и французами навёл меня на мысль о доктрине вымирающей нации. И не только о ней. Сквозь призму всех этих несчастных людей я увидел и наше с вами российское будущее. Оно неизбежно. Неизбежно, если мы поддадимся всеобщему безумию, откажемся от православия и вместе со всем остальным миром поплывём по течению. Туда, куда нам указывают слуги князя мира сего. Иудео-масонское растление людей ведётся настолько дьявольски успешно, что его результаты меня поразили. Подмена христианства общечеловеческим гуманизмом и надуманными новыми «морально-этическими» ценностями дала не только свои всходы, но и давно уже вызрела и своими семенами осыпалась.
Сатанинское зомбирование снежным комом накатывается на планету и охватывает всё больше и больше людей. Охватывает пространства и целые нации. Устоит только тот, у кого ещё не погас огонёк веры, и кто соединяет его во единый православный церковный огонь. Спасение не в нашем количестве. Какое уж там количество. Спасение в нашей стойкости и исповедничестве.
Трудно удержаться на этом пути. А одному – так и невозможно. Церковь устоит. И врата ада не одолеют Её [359]. За Церковь и надо держаться.
Держаться всеми своими силами и до последнего издыхания.
В самолёте думается хорошо. Пусть к Богу самолёт и не приближает. И всё же, когда смотришь в иллюминатор на маленькую землю, на плывущие внизу облака и выше – на звёзды, сердце начинает стучать чаще, а мозги будто проветриваются. В такие моменты и считающие себя неверующими, невольно задумываются о Боге и прямой зависимости от Него.
Сколько нам ещё отпущено времени Господом? Сотни лет? Десятилетия? Или оно закончится завтра? И почему мы не живём так, словно завтра конец Света?
Ответы и не нужны.
А вот, подижь-ты, лезет в голову.
ГЛАВА ШЕСТАЯ. На круги своя
«Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь».
(Книга Екклесиаста или Проповедника. 1. 7).
Владыка Виктор моему возвращению в Славянск-на-Кубани очень обрадовался. Во мне он видел не только верного и своего первого клирика, но и понимающего его человека. Обрадовались возвращению и прихожане. Год мы не виделись.
А, кажется, ещё вчера расставались.
По пути на Кубань удалось выкроить время и заехать на пару часов в Воронеж. Там я встретился с отцом Феодосием (Боровским), иноком Диодором, инокиней Агафоникой. У Диодора и Агафоники всё продолжалось по-старому. Жили они, как и прежде, без новостей. А вот иеросхимонах Феодосий выглядел слишком подавленно и удручённо. Тяжесть служения и хлопотные пастырские будни давали о себе знать. Лицом он сильно осунулся и заметно исхудал.
Подрясник на отце Феодосии висел мешковато и очень свободно.
Иеросхимонах пожаловался на постоянное безденежье, на непонимание его прихожанами, на своеволие и строптивость клироса…
- Поверишь, отец Дамаскин, - жалился клирик. - Зайду в свою келью после службы, упаду на лежанку и плачу от безсилия. До чего же трудно здесь служить. Если бы знал, что так будет тяжело, никогда бы не рукополагался. Зачем мне эти страсти и искушения. Приедешь к владыке Виктору, попроси его. Пусть пришлёт на моё место другого батюшку. Слёзно тебя молю, попроси его Христа ради.
- Так, ведь, некого сюда прислать.
- Тогда сам приезжай. Это же твой приход, а не мой.
- Я, братец, с превеликой радостью сюда возвращусь. Но ты ведь знаешь нашу монашескую жизнь. Живём мы не сами по себе, а по послушанию. Потерпи, уж, как-нибудь. Мне тоже поначалу пришлось очень трудно. А со временем стало легче. Так же и у тебя сложится.
- Но ты всё равно попроси владыку, чтобы меня заменил.
- Хорошо. Попрошу.
Вот такой состоялся у нас разговор.
По приезду в Славянск-на-Кубани, я сразу же передал просьбу отца Феодосия владыке Виктору.
- Пусть не выдумывает, - сходу мне ответил епископ. - Тяжело ему. А нам с тобой легко. Кому сегодня легко? И кем я его заменю? Тобой? У тебя в Воронеже хорошо получалось. Это верно. Но ты мне теперь и здесь нужен позарез. Отец Сергий [360] ещё сырой священник. Да и боюсь я его от себя отпускать. Ненадёжен он. И, похоже, что водочку попивает. Пьёт скрытно. Но меня не проведёшь. Так что Феодосий пусть не выдумывает. Расхныкался там, как малое дитя. Надо ему письмо написать и поддержать. Вечером и напишу.
Вот и всё. И больше мы к этому разговору не возвращались. И без отца Феодосия хватало срочных и неотложных дел.
С отцом Сергием мы встретились, как старые знакомые. Служение в храме ему и, правда, давалось трудно. И служил он плохо. На замечания реагировал болезненно, хотя и не столь остро, как отец Феодосий. Отец Сергий очень старался и со временем, служение его начало выравниваться и приходить в норму. Человеком он казался опытным. В мирской жизни успел многое повидать и через многое пройти. Его отношение к спиртному тогда мне не показалось трепетным.
Особенно отцу полюбились требы. Его общительность и кажущаяся человеческая простота - способствовали сближению с людьми. С неба звёзд он не хватал. Довольствовался малым и тем, что есть. Владыка Виктор с ним не считался и заметно его тяготил. Однако деваться было некуда. И отец Сергий терпеливо дожидался своего часа. Ему хотелось, как можно удачней пристроиться к Церкви. Обустроить себя и по возможности, обустроить детей и многочисленных внуков.
Слабость его вытекала из прошлой жизни. И ничего удивительного в этой слабости нет. В наше время, трудно отряхнуться от мирского праха. Чтобы полностью отречься от мира брачному человеку необходимо многое. И далеко не у каждого монаха оно имеется. Так и живёт он, бедный - одной ногой в монашестве, а другой - в миру. Сегодня таких людей в чёрном облачении предостаточно. И отец Сергий – один из них. Куда же денешься от родных детей и от внуков?
За год много воды утекло и многое изменилось. И заметнее всего изменился владыка Виктор. Изменился он внешне и внутренне. Сбылись мои самые худшие опасения и прогнозы. Епископ Виктор превратился в очень властного и горделивого человека. И раньше эти качества ему были присущи. Но не в такой же степени. Если раньше в нём ещё замечались какие-то сомнения и колебания. Замечались признаки обычной человеческой немощи и неуверенности. То теперь всё изменилось. Он повёл себя с людьми предельно жёстко, всячески выказывая и подчёркивая им свою избранность и непогрешимость.
За год правящий архиерей, словно заново переродился. Стал человеком нетерпеливым и раздражительным. Человеком с непомерно большими амбициями. Да ещё и с претензиями на национально-духовное лидерство. Скажи ему кто о меньшем предназначении, он никогда бы не согласился. Как ни странно, но на приходе никто его особенно не поддерживал и уж, тем паче, не останавливал. Прихожанам было не до владыкиных амбиций или «наполеоновских» претензий. Чужие грехи их мало волновали. Люди мыслили просто и в правильном направлении - исповедаться, да причаститься бы.
Вот и все их заботы.
Со стороны этот маленький и щупленький человек не казался даже смешным. Его словесное «фюрерство» выглядело бурей в стакане воды. Особенно в тех моментах, когда он, при полном серьёзе, вещал о своём агентурстве от Бога и непризнанной исключительности. Когда рассказывал «вещие» сны. Или начинал утверждать «бабушкину» историческую «истину», и народные басни и небылицы, передаваемые из ушей в уши по пьяни или просто за трапезным столом.
Отношения между владыкой Виктором и отцом Валерием Рожновым уже окончательно испортились. В связи с этим, владыка даже упрекнул меня в дружбе с батюшкой. Почему-то считая, что с кем он дружит, с тем должен дружить и я. И наоборот. Хотя, настоящих друзей у него уже давно не осталось. О друзьях он упоминал только в прошедшем времени. Делал попытки с ними связаться. Но никто из них ему весточки не прислал и на телефонные звонки не ответил. С таким характером ужиться трудно. И ещё труднее удержать и сохранить дружбу. Его одиночество бросалось в глаза и менее зрячему человеку. С отцом же Вениамином Жуковым неприятности ещё только назревали и ожидались впереди.
И что мне оставалось делать?
Уйти я не мог, да и некуда. Говорить владыке всё, как оно есть, я тоже не мог. Предельная открытость его бы сразу взбесила и ничего хорошего не дала. Отрицательный же результат меня не устраивал. Оставалось только одно – находиться с ним рядом и с Божьей помощью, пытаться, как-то, влиять на него со стороны. «Если вылечить «пациента» невозможно, то надо пробовать приглушить болезнь».
Так думалось мне.
Мы часто и подолгу беседовали. Днём свободного времени выпадало мало. Требы и неотложные приходские дела его почти полностью истощали. Общаться приходилось, всё больше, вечерами. Говорили мы на разные темы. О церковной истории. О сложных и далеко не сразу понятных апокалипсических моментах. О будущей российской монархии. И о тех или иных людях, стоящих сегодня у кормила церковной и государственной власти. Говорили и о многом другом.
В том числе и о церковном строительстве РПЦЗ (В).
Несмотря на свою категоричную безаппеляционность, в отдельных эпизодах владыка Виктор всё же отступал от устоявшегося давления на собеседника. Как бы, немного оттаивал. И тогда можно было, если и не спорить, то, хотя бы, слегка ему оппонировать. Обычно наши разговоры происходили рядом с храмом в ухоженном церковном дворике. И со стороны они могли показаться довольно странными. И в самом деле. Редкое нынче явление, когда два убелённых сединою монаха столь отрешённо бродят внутри церковной ограды и о чём-то тихо между собой переговариваются.
Изредка к нам присоединялся и отец Сергий (Чурбаков). Нашим беседам он ничуть не мешал. Батюшка внимательно прислушивался и когда разговор заканчивался или переходил в иную плоскость, тогда он вставлял и свои расхожие реплики. Отцу Сергию доставляло видимое удовольствие, хоть что-то сказать и тем самым поучаствовать в разговоре.
Весной думается и говорится легко. Жары и комаров ещё нет. Воздух чистый и приятный. Птички скрашивают звуки трелями. Почему бы ни походить около храма, не размяться после долгих треб и не поговорить на насущные церковные темы?
Вон их сколько.
Весна на Кубани наступает быстро. Не успеешь и глазом моргнуть, как уже всё растаяло и потеплело. Люди пытаются не упустить благоприятный момент. Многие стараются высадить скорее рассаду. Посадить раннюю картошку, капусту или цветы. И всё это ради хлеба насущного. Вырастить и продать. Тем и живут потом долгие месяцы.
Если что и улучшилось на Славянском приходе, так это бытовые условия. За истекший год к хозяйственному блоку пристроили душевую, компьютерную и две монашеских кельи. Семья владыки переселилась в его городскую квартиру. А сам он теперь проживал в одной из новых келий. В другой же келье находилась инокиня Ольга и частые паломники женского пола. А на втором этаже проживали мы с отцом Сергием. Там же останавливались и паломники мужчины. Места хватало всем. Спать ложились ближе к полуночи. А вставали в шесть часов утра. И так изо дня в день, и из месяца в месяц…
По архиерейскому благословению, я начал потихоньку осваивать работу на компьютере. Владыка быстро терял зрение и ему требовался редактор-помощник. Компьютерная грамота давалась мне тяжело. С клавиатурой я мог свободно работать и раньше, а вот со всем остальным пришлось долго помучиться и повозиться. Вначале освоил электронную почту и уже затем, работу с сайтами и поисковиками. К этому же периоду времени относится и моя первая электронная публикация на портале «Меч и Трость» В. Г. Черкасова – Георгиевского. Полтора года я не брался за перо. Не взялся бы и дальше, но епископ настоял. Статья раскрывала истоки предательства митрополита Сергия (Страгородского).
Истоки эти начинались задолго до злополучного 1927 года.
После первой публикации пошли и другие статьи. Стратегию молитвенной [361] борьбы владыки Виктора я тогда полностью разделял. Хотелось ему помочь и хотя бы часть оголтелой критики оттянуть на себя. Трудно судить, удалось ли мне это сделать. И всё же, видимо, удалось, коль, позднее нас стали желчно и нераздельно величать «Кубанскими богословами».
И всё в том же издевательском духе.
Как бороться с иудео-масонской оккупацией России? Вот вопрос, который, не в последнюю очередь, волновал наши монашеские умы. Ничего не скажешь – вполне актуальный и спасительный вопрос. Идти ли нам по пути постепенного народного воцерковления? Или же поддерживать и благословлять всех, кто за Веру, Царя и Отечество? И неважно, что вкладывают люди в эти высокие понятия. Поддерживать и благословлять любое национально-патриотическое движение?
Конечно же, мы отдавали себе отчёт в том, что если не считаться со временем, а, с Божьей помощью, «плыть по течению», то постепенное, а стало быть и очень долгое народное воцерковление может совсем и не состояться. Не состояться ввиду того, что иудео-масонская пропаганда, имея в своих в руках значительно превосходящие инструменты влияния (в основном СМИ), намного нас опережает и практически сводит на «нет» все наши слабые миссионерские усилия и потуги.
С другой же стороны, если поддерживать и благословлять всех подряд и без особого разбора, тогда можно совершить роковую ошибку и привести к государственному управлению столь радикально настроенных людей, которые, не только на своём пути к власти, но и после, прольют реки крови. В том числе и реки крови простых, и ни в чём неповинных людей.
Почти совсем не учитывая Божьего Промысла, а всё больше полагаясь на свои скромные человеческие силы, мы всё сильнее и сильнее затягивали себя в патовую или совсем уж безвыходную ситуацию. Невольно выталкивая себя из области церковной и всё глубже, и глубже, затягиваясь и погружаясь в область государственно-политических и социальных сфер.
Это происходило не само по себе. А от нашего сверхсочувственного восприятия быстрой духовной деградации и физического вымирания русских людей. А также, ещё и от нашего огромного желания - скорейшего восстановления попранной православной монархии - избавления от иудео-масонской оккупации и невольной жидовской зависимости. Такое восприятие и желание не только допустимо, но оно и единственно правильно, а, следовательно и нормально для православного русского человека.
Как мне мыслится, подобное мировоззрение нас полностью оправдывало. Оправдывало практически за всё. В том числе и за допущенные существенные ошибки. Кто-то же должен был начинать говорить правду и предлагать пути исправления кривды. Начали это делать мы. Начала это делать Церковь Христова. Как начали? Это уже другой вопрос.
А что ошибались…
Так от ошибок не застрахован никто из людей.
Однако многочисленные критики и голословные оппоненты ошибок прощать нам не думали. Никаких оправданий и скидок они и знать не хотели. Не хотели их ни слышать, ни видеть и ни замечать. Им лишь бы только одно – поглумиться, посмеяться, да накричаться в интернете досыта. Кричали они и не просто так. Кричали и по заказу. Крика этого мы не боялись.
Боялись лишь одного – вовремя не успеть.
Перед Великим Постом группа наших прихожан из Бразилии и Уругвая неожиданно попросила у владыки Виктора на Великий Пост и Пасху священника. Так получилось, что поблизости наших священников у них не оказалось. Потому и попросили прислать им батюшку из далёкой России. Русским людям, проживающим в этих экзотических странах, хотелось не только помолиться на Постовых и Пасхальных службах, но и крестить детей, освятить свои дома и квартиры. Помимо служб и треб, священнику требовалось ещё посетить Аргентину и Чили с миссионерским визитом.
Лететь в такую даль - нужды никакой не имелось. Я не отошёл ещё и от своей первой заграничной командировки. Владыка видел моё удручённое состояние, поэтому благословил лететь в Сан-Пауло отца Сергия (Чурбакова). Батюшка грядущей перемене несказанно обрадовался. Но его радость оказалась преждевременной. Владыка думал, думал…
И передумал.
- Давай, отправляйся в Бразилию ты, - сказал мне, как-то, епископ в отсутствии отца Сергия. – Боюсь, что отец Сергий наломает там дров. Да и служб он толком не знает. Сам там опозорится и нас всех опозорит. Потрудись уж, братец, Христа ради. А когда вернёшься из Южной Америки, тогда и отдохнёшь от всех этих заграниц. Короткий отдых я тебе обещаю.
Архиерейские слова застали меня врасплох. А после, заставили призадуматься. Признаюсь, не хотелось мне оставаться на приходе в жаркое кубанское лето. С другой же стороны – ещё неизвестно, что там душнее и жарче, кубанское лето или же бразильская зима. Имелись и другие сомнения. Сомневаться можно сколько угодно. Да, толку-то.
Никакого выбора у меня не оставалось.
- Хорошо, владыка, - ответил я епископу Виктору. - Только вот перед отцом Сергием не очень удобно. Он уже начал готовиться к этой поездке. И вдруг, вместо него полетит в Бразилию кто-то другой.
- Ничего, перетерпит. Позднее мы его отправим в Марсель. Отец Вениамин Жуков уже давно туда просит священника. В Марсель ещё, куда ни шло. Европа – место для нас почти домашнее. В случае чего, оттуда человека и отозвать проще. А в Бразилию отцу Сергию ещё рановато.
Епископ сказал – всё равно, что благословил.
Противиться его воле – погибельно.
На всё, про всё, у меня оставалось с полмесяца. За это время надо было подготовить необходимые документы и взять визы в Бразилию и Уругвай. Получить пересланные деньги и выкупить на них авиабилеты. Прихожане просили ещё прикупить церковной утвари, потому как в Южной Америке с ней у них туговато. После появилась надобность в прививке от жёлтой лихорадки.
И т. д., и т. п.
Отец Сергий отнёсся к новому решению владыки болезненно. Хотя виду старался не подавать. Да и что он мог сделать против благословения владыки? Послушание превыше поста и молитвы. И отец Сергий это прекрасно помнил. Смиряла и успокаивала его предстоящая поездка в Марсель. Отца Сергия она тоже устраивала. Батюшке было без разницы, куда лететь или ехать. Хоть на край белого света. Лишь бы подольше и подальше от владыки Виктора.
Я его хорошо понимал и потихоньку поддерживал.
С двумя иеромонахами на приходе владыке было очень удобно. Мы с отцом Сергием служили в храме молебны и панихиды. Крестили детей и взрослых. Ездили на частые требы. А он, в это время, записывал свои статьи на бумагу. Изредка брался за требы и сам. А ближе к вечеру, садился за персональный компьютер. Когда выпадало свободное время, епископ просил меня ему помогать - редактировать и заносить уже готовые тексты в компьютер. Но такое случалось не слишком часто. А после просьбы и совсем прекратилось. У меня просто не хватало терпения и умения разбирать его рукописи.
Однажды, на экране компьютера и прямо в конце своего очередного богословского текста, владыка Виктор обнаружил два пренеприятнейших для себя слова – «написано неверно». Выделенные жирным шрифтом, они сразу бросались в глаза.
Убедившись, что это не он сам написал, а кто-то другой, епископ меня с гневом спросил.
- Это ты написал?
- Нет. Я сегодня к компьютеру не подходил.
- Тогда, кто же это сделал? – с неверием в голосе, подозрительно спросил епископ.
- Не знаю.
- Но само оно, ведь, не могло написаться?!
- Бог весть. Надо спросить у специалистов.
Не знаю, спрашивал ли владыка о странных словах у специалистов или же нет. Для меня они – так и остались загадкой. Я их не писал. Отец Сергий – тоже. Отец Сергий тогда не ведал, с какого краю и подходить к компьютеру. В компьютерную комнату, кроме владыки Виктора, никто не заглядывал и не заходил. Прямо чудо какое-то. Словно знак свыше.
После такого необычайного случая, владыка стал ко мне пристальней присматриваться и чуточку меньше мне доверять. Присущая ему подозрительность обострилась до болезненного почти состояния. Стоило немалого терпения и труда, чтобы развеять его подозрения.
Рассеянность и забывчивость тоже вносила свои коррективы в писания. Иногда владыка Виктор забывал закрепить в компьютере только что им написанный текст. И тогда весь его писательский день пропадал даром. Но он не особенно-то и расстраивался. Потерю текста переживал с юмором и легко. Махнув рукой на досадную оплошность, как ни в чем, ни бывало, садился писать заново.
Вообще же, его писательский зуд меня удивлял. И он намного превосходил всё остальное. Даже и вместе взятое. Поражала его неуёмная энергия и работоспособность. Несмотря [362] на строгий, а то и аскетический образ жизни, и свой уже, довольно-таки, преклонный возраст, владыка, если видимо и уставал, то не в течение рабочего дня, а гораздо ближе к позднему вечеру. Однако восьми часов крепкого и здорового сна ему вполне хватало на восстановление потраченных сил. Утром он выглядел бодрым и хорошо отдохнувшим человеком, готовым продолжать начатое дело.
Помимо дневных треб нам приходилось ещё много общаться с прихожанами и пришлыми людьми. Часто заходили сектанты, наркоманы и алкоголики. Появлялись в церковной ограде люди и без определённого места жительства, и только что вернувшиеся из мест лишения свободы. Заходили они и просто так, и ради получения духовной или же материальной помощи. Никто из этих людей не уходил без куска насущного хлеба и без утешительного священнического слова.
Предстоящий отлёт в Южную Америку немного отодвинул в сторону текущие общецерковные дела. Я, конечно же, был в их курсе. Но всё больше и больше занимался проездными бумагами и приходской жизнью, чем их отслеживанием и помощью епископу. Борьба отца Вениамина против епископа Анастасия набирала свои обороты. К ней активно подключился епископ Владимир и епископ Виктор. Правда, епископ Виктор втянулся в неё без особого на то желания и охоты.
Епископа Анастасия мой владыка не жаловал. Это верно. И всё же, владыка Виктор, если пока и не понимал, то предчувствовал, что его помощь отцу Вениамину может оказаться палкой о двух концах. Скорая расправа над неугодными священниками и епископами, похоже, отцу Вениамину понравилась. И глядя на неё со стороны, всё отчётливей и отчётливей начинало казаться, будто такие действия несут пользу не столько РПЦЗ (В), сколько лично секретарю Архиерейского Синода.
Владыка Виктор, как человек, немало поживший на этом свете и повидавший всякого, начинал постепенно догадываться, что митрофорный протоиерей из предпарижских предместий, выстраивает церковную иерархию не ради Христа и не с большей пользой для Церкви, а под себя. Поэтому его участие в травле епископа Анастасия вскоре обрело пассивные формы. Причина столь явной пассивности мне была тогда непонятна. Я поддерживал отца Вениамина Жукова. Полностью полагался на его солидный пастырский и управленческий опыт. Даже и в мыслях своих я не держал о батюшке ничего плохого или предрассудительного. «Крамольные» мысли появились позднее. И до них ещё предстояло дожить.
За истекший год паломников в храме не увеличилось. Из Московской патриархии и других юрисдикций переходило к нам мало верующих. Люди, в основном, уже определились с выбором. Наоборот, начался малый исход из РПЦЗ (В). Первыми стали покидать Корабль Спасения священники-иудеи. Крики в интернете усиливались. Появился электронный сайт некоего М. Фёдорова с одиозным названием - «Осторожно Пивоваровщина!». На нём Миша, а после и более солидные люди, повели открытую и немилосердную борьбу против своего правящего архиерея. На сайте том ставилось очень много неправды. Зло и по-хамски, критиковалось и передёргивалось буквально всё, что выходило из-под пера епископа или же автора этих строк. И весь этот «сыр-бор» разгорелся из-за того, что, якобы, Мишу, в пресловутом Алексине, насильно постригли в чтеца.
Как это можно сделать, да ещё и прилюдно?
До сих пор ума не преложу.
Даже и теперь трудно ответить на вопрос, кто же, всё-таки, инициировал и направил в «нужное» русло больное воображение М. Фёдорова? Можно допустить всякое. В том числе и «руку» тех, кто так поспешно покидал или собирался покидать Церковь Христову.
В ход пускались самые грязные и «запрещённые» приёмы. Люди, называющие себя православными христианами, на деле показывали всю свою антихристианскую сущность. Они не считались ни с чем. Лишь бы только крикнуть громче и пошлее. Говорить с ними о совести, человеческой порядочности или о христианском милосердии - не имело никакого смысла. Я, по наивности, попытался достучаться до их благоразумия. Но так и не достучался. Отец лжи вошёл в их сердца и души.
И они осатанели.
Сегодня эти люди на время затихли. Интересно, надолго ли? Их что-то не слышно и на обозримом горизонте не видно. Некоторые из них ушли к староверам, близким по духу к властям и Московской патриархии. Другие остались в «осколках».
А третьи, вообще, потерялись.
Весною владыка попытался зарегистрировать Южно-Российскую епархию РПЦЗ (В) в органах краевой Кубанской юстиции. Собрал для регистрации кучу документов. И несколько раз съездил в Краснодар. Но всё безуспешно. Для регистрации епархии по закону требовалось наличие в субъекте Федерации трёх православных приходов. И они имелись. Однако что-то чиновников не устраивало. Мы исправляли бумаги, но на скорейшую регистрацию исправления не влияли.
Пришлось эту затею владыке оставить. Оно и к лучшему. Молиться нам компетентные органы особенно не мешали.
С Божьей помощью, обошлись и без регистрации.
Московская патриархия, в лице своего благочинного иудея по фамилии – Гаврильчик, за короткий срок почти полностью монополизировала отпевание усопших. И сделала она это не только умело и быстро, но и очень хитро. Теперь, чтобы похоронить на местном городском кладбище, отошедшего в мир иной, человека, требовалась справка об отпевании от вышеуказанного «господина» Гаврильчика или же его «заместителя». В Славянске-на-Кубани появилась целая сеть ритуальных патриархийных контор. Где, за приличные деньги, можно было, в ассортименте, получить полный прейскурант похоронных услуг.
От церковно-похоронной атрибутики, до отпевания усопшего.
Если раньше за отпеванием к нам обращались самые бедные люди города и его окрестностей и, бывало, мы в день отпевали до пяти покойников, то теперь отпевать мы почти перестали. Не «мытьём» так «катаньем», патриархия вытесняла нас от требных служб.
Перед самым моим отъездом в Москву за визами, в Южно-Российскую епархию попытались перейти два патриархийных клирика. Один из них - бывший настоятель Рыльского мужского монастыря, что в Курской области – игумен Моисей. А другой – белый священник - иерей Виктор [363] из бывшей казачьей станицы Краснодарского края. Отца Виктора владыка принял сразу же. Приехал он не один, а со своей матушкой. Владыке и всем нам они очень понравились, и показались людьми глубоко порядочными.
И до перехода у отца Виктора случались трения и неприятности с благочинным церковного округа. А уж после перехода в Зарубежную Церковь ему стали и вовсе открыто угрожать. И не, где-нибудь, там угрожать на улице или где-то ещё, а прямо в районной прокуратуре. Завели на него уголовное дело. И намекнули, что если он с покаянием не вернётся в Московскую патриархию, то они его, непременно и даже очень быстро посадят. А помимо того, с его матушкой и двумя дочерьми-подростками могут вскорости случиться большие неприятности. Неприятности - понятно какого толка.
От угрожающих слов власти перешли к конкретным действиям. Не долго думая, с двумя милиционерами они прислали бумагу на срочное выселение семьи батюшки из сторожки при храме. Только что присланный новый священник оказался человеком милосердным. Он соглашался на месячную и даже более далёкую отсрочку. Но с его мнением никто и не думал считаться. Власти и патриархийный благочинный требовали от «раскольника» незамедлительного выселения.
Всё это нам рассказывал отец Виктор, буквально, через пару седмиц после своего принятия в Зарубежную Церковь. Он просил у владыки материальной помощи и широкой огласки сложившегося положения. Когда же получил и то, и другое, патриархия резко поменяла тактику. Не отбрасывая далеко в сторону своих прежних угроз, она предложила отцу Виктору «золотого тельца», то есть более доходное место – настоятельство в одной из самых богатых и видных станиц края.
Устав горе мыкать и махнув рукой на спасение – батюшка с патриархийным предложением согласился. После чего, приехал в Славянск-на-Кубани и слёзно покаялся в своей немощи и отступлении от правды перед епископом Виктором.
Игумену же Моисею владыка в приёме категорически отказал. По рассказу Моисея, жизнь его складывалась трагически. Хотя сам он никакой трагедии не видел и не чувствовал, и поэтому нисколько не унывал. Глядя на этого, в общем-то, молодого и пустопорожнего человека, я ещё раз поневоле задумался о чистоте священномонашества Московской патриархии.
Посудите сами.
Настоятельствуя в Рыльском мужском монастыре и даже предстоя - кандидатом в епископы [364], игумен Моисей умудрился «отбить» матушку у одного из молодых Курских священников. А затем, бросить всё на свете: монашеские обеты, братию монастыря, своё настоятельство и епископское кандидатство, и податься вместе с этой падшей женщиной (не иначе, как в качестве любовника) на её родину. На Кубань. Бог миловал и ту бывшую матушку видеть мне не довелось. А игумен Моисей, своим внешним видом и прошу прощения, лёгким поведением, здорово мне напоминал господина Хлестакова из гоголевского «Ревизора». Я-то думал, что таких людей на белом свете уже и в помине нет.
Ан, оказалось, ошибся.
Владыка Виктор этого человека не принял.
- Ты же теперь не игумен, а простой монах, - сказал он прямо в глаза тому Моисею. – По церковным канонам, ты сам с себя рукоположения сбросил [365]. Простые монахи мне не нужны.
Владыка Виктор Моисея не принял. Зато приняла своего ставленника патриархия. И в сущем сане. По слухам, игумен Моисей сегодня успешно начальствует в одном из её подмосковных скитов. И не только начальствует, но и примыкает ещё к тем самым казакам, приветствующих друг друга – «хайль Гитлер!». Вместе с ними и то же самое приветствие, кричит теперь и погибающий Моисей.
Дьявол хитёр и коварен. Если он улавливает в свои сети и избранных, то, что тогда говорить о таких людях, как Моисей.
Паломники и захожие люди – обычное явление на православных приходах. Мы радовались каждому новому человеку. С их появлением приходская жизнь на приходе ничуть не менялась. Она шла своим и уже давно налаженным чередом. Происки «господина» Гаврильчика и «компании», тоже не особенно нас затрагивали. Люди и без посторонней помощи научились разбираться во лжи. Храм РПЦЗ (В) продолжал пользоваться незыблемой репутацией в городе.
И поколебать её было не под силу разным «гаврильчикам».
Когда же на улице темнело и вместо дневного света зажигались многочисленные звёзды и городские фонари, мы выходили в церковный дворик немного размяться и погулять. Такие прогулки уже давно стали привычкой и обыденным делом.
Они нам давали возможность расслабиться от трудного служебного дня. Помогали лучше осмыслить прожитое время. Хорошо отвлекали от обыденности и монотонности. А так же, позволяли побыть в непринуждённой обстановке.
И просто наедине, по-человечески, поговорить.
Такие прогулки владыка Виктор очень любил. Для него они являлись ещё и источником свободного полёта мысли на излюбленные темы. А в нашем лице, давали ему внимательную и почитающую сановного оратора аудиторию. Разглагольствовал, обычно, правящий архиерей. Мы же с отцом Сергием (Чурбаковым) смиренно слушали и всё больше молчали.
Хотя и далеко не всегда.
Возвращаясь ещё раз к теме «внеземных цивилизаций», «неопознанных летающих объектов», столь густо появившихся в оппонирующих статьях и репликах, скажу, что, в тех наших частных беседах, владыка Виктор высказывал по ним вполне православное мировоззрение. «Внеземные цивилизации» и «неопознанные летающие объекты» он относил к бесовским порождениям (инсинуациям), будто ядовитый мираж, влияющим на человеческое сознание и как следствие, способствующим впадению человека в область искажённых видений (восприятий) и умопомрачительных рассуждений.
По этой теме говорил он много. Говорил интересно и правильно. Жаль, что те его православные рассуждения так и остались во языцех, и нигде не появились в печати. Трудно сказать, смогли бы они переменить к нему отношение. Скорее всего, нет. Но, хотя бы частично, они бы его оправдали за прежние смысловые, стилистические и редакционные ляпсусы.
Увы, к сожалению, этого не произошло.
Когда у верующего человека проявляются грехи гордыни, зависти и памятозлобия, то с ним невероятно сложно ужиться. Когда же эти самые грехи проявляются у православного епископа - наступает просто беда. Какое-то время эти грехи у владыки Виктора не возрастали. А если и возрастали, то меня они совсем не затрагивали. И потому я их почти не замечал. Отношение же епископа к своим духовным противникам уже давно примелькалось и приобрело, как бы, форму допустимой нормальности. Впрочем, злобу и ненависть, вкупе со старческим и желчным сарказмом, допустимой нормальностью не назовёшь.
Длительное советское диссиденство и постоянная внутренняя борьба с самим собой (с «ветряными мельницами») а, также и полное одиночество, его так сильно измотали, что, всё это, в своей совокупности, не смогло не сказаться на душевно-психическом состоянии. Я стал замечать, что владыка всё чаще и чаще обращается к самому себе или же непонятно к кому. По утрам и ночам теряется в пространстве, и не может найти выхода или какую-нибудь простую и элементарную вещь. На мой взгляд, епископ срочно нуждался в продолжительном отдыхе. Ему требовался хороший уход и покой.
Жить в постоянном перенапряжении и стрессе, это всё равно, что очень быстро сгорать. Однако на все мои намёки об отдыхе, владыка Виктор никак не реагировал. Поэтому и отец Сергий и я, старались его, как можно меньше нагружать требами, общением с паломниками и пришлыми людьми. К требам владыка упорно тянулся по своей старой священнической привычке, а от людей он и сам отмахивался, ссылаясь на епархиально-управленческую и писательскую занятость.
В храме имелась небольшая библиотечка (помимо статей и брошюр владыки Виктора), составленная, большей частью, из творений святых отцов Церкви и разной житийской литературы. Эти книги выдавали читать всем желающим прихожанам. Когда выпадало свободное время, мы и сами любили перечитывать святые и душеполезные тексты.
Больше всего мне нравились места из житийского наследия. И опыт святости не проходил мимо. Он заставлял о многом задуматься.
Невольно сопоставляя свою скудную монашескую жизнь с жизнью святых отцов Церкви, я делал далеко идущие выводы. И они всегда оказывались неутешительными. Всё чаще и чаще приходилось задавать себе трудные и извечные вопросы: «правильно ли живу?» и «не слишком ли политизирована моя жизнь?». Ответы на них не обходились без вопросительного знака: «а, как жить по-другому в наше-то время?». И действительно, как? Мы же не страусы, а православные люди.
От Божьей правды не спрячешься даже в песок.
Март заканчивался. Начинался апрель. Приближалось время отъезда. Все бумажные формальности остались позади.
А всё остальное и наиболее важное, требовалось уже доделать в Москве.
- Из Бразилии ты почаще звони, - напутствовал меня перед отъездом правящий архиерей. – Три месяца пролетят, не заметишь и как. А, если, что там будет не так, то не задерживайся, а сразу же возвращайся домой. Я наездился по заграницам и знаю, что русским духом там и не пахнет. Мишура одна. Денег лишних не дам. Нам они и самим здесь ещё пригодятся.
Вот и все его напутствия.
В Москве стеснять В. Г. Черкасова – Георгиевского мне было неудобно. Православный писатель жил с женой в очень маленькой квартирке, где втроём не так просто и разминуться. Памятуя об этом, я остановился в Подмосковье у своего давнего институтского приятеля. И сразу же, без всякого промедления, начал хлопотать с визами. Бразильскую визу я получил через три дня. А с уругвайской вышла небольшая задержка. Пришлось звонить в Уругвай и просить какую-то дополнительную бумагу.
Хлопот хватало и помимо виз.
Малые деньги пришли из Южной Америки через известную банковскую систему. В Софрино я закупил на них Плащаницу, лампады и свечи. А в офисе итальянской авиакомпании выкупил заказанные билеты. После всех этих финансовых манипуляций денег на руках у меня не осталось. Подрясник мой весь истрепался. А обувка состарилась и совсем прохудилась. На себя я внимания не обращал. Но лететь в таком виде в Сан-Пауло институтский приятель меня не пустил. Он указал на заметные прорехи в одёжке и обуви. Покачал с удивлением головой. И не только покачал…
На его пожертвования я и купил себе новый подрясник с обувкой. И стал выглядеть на порядок приличнее, и «транспортабельнее».
Москва – Рим – Сан-Пауло. Дорога дальняя и неизведанная. Не потеряться бы в пути. Без знания иностранных языков и дорожной зарубежной неопытности, такое дело, поди, не хитрое. Отец Валерий Рожнов вместо Москвы едва не залетел в жаркую и чёрную Африку.
То же самое может случиться и со мной.
Не приведи, конечно, Господь.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. В Южной Америке
«Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаём из того, что последнее время».
(1.Ин. 2:18).
Огромный Боинг – 747 итальянской авиакомпании Alitalia приземлился в международном аэропорту Сан-Пауло ранним осенним утром [366]. Alitalia показалась мне хуже нашего Аэрофлота. По качеству обслуживания и бортовому питанию, она заметно уступала советскому авиапассажирскому детищу. Из-за малосъедобности предлагаемых продуктов, есть мне, вообще, не пришлось. Только редкое питие плохой минеральной воды, как-то и скрашивало полётное время. Одиннадцать с половиной часов полёта от Рима до Сан-Пауло дались мне тяжело.
И дело не столько в вынужденном посте или сильной турбулентной болтанке над Атлантикой, сколько в многочисленных евреях, летевших со мной в одном и том же салоне. И послал же Господь такое наказание! Их «хозяйская» вальяжность и пошлая развязанность - выглядели омерзительно. Граничащее же с хамством - показное высокомерие и вседозволенность - вынуждали меня находиться в постоянно-повышенном эмоциональном напряжении.
Хоть, возьми тут и тресни!
Но, как я ни пробовал и ни пытался, а расслабиться или, хотя бы, немного успокоиться, у меня, ну, никак не получалось.
Пейсатые молодые люди, со звёздами царя Давида в золотых цепочках на шеях и цветных татуировках на открытой плоти, всем своим видом и поведением показывали, кто же является хозяином жизни на земле [367]. Их вызывающие поведение отталкивало. Оно походило на пещерную первобытность. Походило на знакомую цыганскую таборность.
Признаюсь, такое ошарашивающее и нежданно-негаданное безкультурье меня не только возмутило, но и удивило. До этого полёта, я полагал, что евреи, всё же, более скрытные и культурные люди. Здесь же открылось совершенно другое – открылось совершенно противное. Временами казалось, что, этим рейсом, летим не мы, а одни лишь евреи. На других пассажиров они никакого внимания не обращали. И вели себя так, будто нас и вовсе не существовало.
Евреи занимались самими собой. Молодые люди всё время о чём-то разговаривали. Что-то постоянно и громко выкрикивали. И потом долго, и дико смеялись. Распятие на моём иеромонашеском кресте приводило их в неописуемое неистовство. Дети отца лжи смотрели на Него с откровенной издёвкой. Смотрели на Него, так вызывающе пренебрежительно и с таким откровенным презрением, как смотрят на нечто совсем, уж, гадкое и прости Господи, омерзительное.
Эти взгляды вызывали в моей душе бурю негодования и протеста. Кровь во мне закипала, а пальцы сами сжимались в кулаки.
Каюсь!
Хотелось встать со своего места и невзирая ни на что, повыбрасывать этих людей за борт. Очень хотелось. От подобного действия удерживала одна лишь Иисусова молитва.
Их малые дети всё время, по-поросячьи, визжали и безнаказанно бегали по салону. Дети мешали пассажирам отдыхать, мешали спокойно лететь. Даже свою кошерную пищу, сложенную в аккуратных корзинках, евреи ели с каким-то непонятным восторгом и видимым превосходством. О, Господи! Избранная нация! Когда-то Богом. А теперь уже дьяволом!
И всё же, на бразильскую землю я ступил в приподнятом настроении. Благополучное завершение полёта, раннее утро и знакомая свежесть, вкупе с открывающимися неземными красотами, отодвинули, а затем и начисто стёрли все негативные ощущения.
Контроль и досмотр мы прошли на удивление быстро. Во Франции эти же самые процедуры занимали значительно больше и нервов, и времени. А здесь, всё невероятно просто. Офицеры формально проверили наши документы и…
Добро пожаловать в солнечную Бразилию, сеньоры и сеньориты!
На выходе меня уже ожидали: отец диакон Кессарий, брат Герман и Владимир Бибиков. После благословения и краткой беседы, мы сели в машину и тронулись в путь.
Сан-Пауло казался безконечным городом. И смотрелся новым Вавилоном. Взору открывались незнакомая растительность и какие-то, сатанинские рисунки с надписями на заборах, и зданиях. Надписи и рисунки пестрели везде: на стенах домов, на покатых крышах и где только возможно, и невозможно. Однако, несмотря на столь ранний час, нищие уже работали.
И их количество меня поразило.
Никогда, ни до, и ни после, я не видел столько, просящих, но, отнюдь, не жалких людей.
В машине братия тихо переговаривалась. Но я не очень прислушивался. Мой взгляд был устремлён на дорогу и её окрестности.
Холмистость пейзажа притягивала и радовала глаза. Здания попадались разные - от высотных башен, до одноэтажных. От наших домов они мало, чем отличались. Высотки и отдельно стоящие дома, окружались заборами с колючей проволокой поверху. На мой недоумённый вопрос, брат Владимир ответил, что заборы и охрана служат защитой от посягательства преступников. Ответ меня удивил, но расспрашивать дальше я постеснялся. «Немного обживусь, тогда и узнаю побольше» - подумалось мне.
Шоссе повернуло к реке. И сразу же в нос ударил невыносимый запах. Отвратительный запах проникал даже сквозь плотно закрытые окна машины. И ничто не могло его удержать. Брат Владимир пояснил, что причиной вони является городская канализация, выходящая прямо в речку. Зловоние преследовало нас, пока мы не свернули на другую дорогу. От аэропорта путь пролегал, через Сан-Пауло, до Санто-Андрэ. Санто-Андрэ – спутник Сан-Пауло. Заметить переход от одного города к другому невероятно трудно. Границы, если и существовали, то разве что на административной карте. Здания и вся коммуникационная структура Санто-Андрэ плавно, и совершенно незаметно вписывалась в мегаполис [368].
Поместье Бибиковых располагалось в довольно престижной части города, на охраняемой улице. Меры охраны и человеческой предосторожности, если не откровенной боязни, казались мне несколько странноватыми. В России такого никогда не увидишь. Да и жизнью мы не особенно-то дорожим. Здесь же, как на гражданской войне. Позднее мне пояснили, что меры уличной охраны и личной предосторожности, не столь и безлишние. Преступники убили молодого русского соседа Бибиковых. Ранили брата Владимира. И покушались на жизнь брата Германа. Поневоле тут станешь опасаться.
Хозяин семьи – Павел Владимирович Бибиков - встретил нас у ворот. С открытым и добрым русским лицом, он сразу мне понравился. И запал в душу. И благоверная супруга его – Нина Алексеевна Бибикова – показалась достойной парой и спутницей своего мужа. В благословенном браке проживали они давно. Вырастили троих родных детей и одного приёмного сына. Не грех и позавидовать такому житейскому счастью. Всё это прекрасное поместье – от трудов своих праведных.
Павел Владимирович - из столбовых российских дворян - древнего и знаменитого рода Бибиковых. Дед его, будучи киевским генерал-губернатором, прославился многими честными делами. На царское предложение о графском достоинстве ответил государю так.
- У вас, Ваше величество и без меня графьёв много. Обойдусь тем, что имею.
А имел киевский генерал-губернатор много чего. А так пуще всего, имел совесть и честь. Его добрые дела на благо Отечества и поныне живут в памяти киевлян. Урождённая Бибикова была замужем за фельдмаршалом Кутузовым. Род старинный. И сказать о нём есть много чего.
Отца Павла Владимировича зверски уничтожили красные. Уничтожили уже в эту мировую войну. И маленькому Павлику пришлось с мамой вволю горе помыкать и поскитаться по «Европам и Франциям». Здесь в Бразилии, с Божьей помощью и осели.
Павел Владимирович и сам в гору с Богом поднялся. Выучился на чертёжника и почти всю свою жизнь проработал по этой специальности на дочерней немецкой автомобилестроительной фирме. Вышел на пенсию. Но и сейчас ещё работает для души. Он прекрасный переплётчик, специалист по книгопечатанию и известный в мире коллекционер старинных русских книг. В его антикварной и уникальнейшей библиотеке мне и предстояло провести большую часть «бразильского» времени.
После тёплого приёма и скорого завтрака, мне показали домашний храм. Храм поразил меня ухоженностью и любовью постройки. Строила вся семья Бибиковых. В нём мне и предстояло служить Постовые и Пасхальные службы. Храм дышал православностью и русскостью. Чувствовалось, что всё здесь сделано русскими руками, с русской душой и освящено Духом Святым.
Однако не это меня поразило больше всего. Не русские люди на далёкой чужбине [369], не интереснейшая библиотека и даже не Божеский храм. Больше всего меня поразила Катенька. Маленькая двухлетняя девочка – внучка Павла Владимировича.
Просто рассказать словами её молитвенный порыв, её ангелоподобную чистоту и то, как она в таком юннейшем возрасте молится – невозможно. Всё это надо не рассказывать, а видеть своими глазами. Чувствовать с открытой душой. Уже и теперь прекрасно владея двумя языками, Катенька, наизусть знает многие, многие молитвы. И взрослый не знает столько молитв, сколько знает эта чудесная девочка. Господи! Как же она молится! Как же она молится! Описать и передать на словах - невозможно. Это надо видеть. От радости мне плакать хотелось, глядя на это юное чудо Господне.
Куда мне до её чистейших молитв.
Из России я привёз Плащаницу, миро и свечки для храма. Дорогой же Павел Владимирович, всё больше, радовался мне – батюшке и просто живому русскому человеку с Родины. От былой России его детская память сохранила русский весенний лес. Запах цветущих лесных ландышей и трели соловья. Когда-то с родителями он побывал в настоящем русском лесу и навечно всё это запомнил. Поэтому ему и очень хотелось побывать снова в том далёком своём детстве, в том русском весеннем лесу.
- А разве здесь вы не ходите в лес? – спросил я Павла Владимировича.
Павел Владимирович посмотрел на меня с удивлением и с грустью ответил.
- В Бразилии, батюшка, не лес, а джунгли. Как же туда пойдёшь, когда там сыро, сверху постоянно капает вода и полно ядовитых змей.
После его слов, я понял, что допустил оплошность.
- Так слетали бы в Россию. Сейчас это запросто, - не унимался я.
- Не могу. До тех пор пока не взойдёт на престол православный Государь, не могу. Не пойду я просить визу к жидам и безбожникам.
Вопрос: «а, если не доживёте?» - я задавать не стал. Он показался мне неуместным. Пусть достойный русский человек молится и ждёт православного Государя. Глядишь, доживёт и дождётся. А мы ему молитвой всеобщей подсобим.
Помоги нам в том, Господи!
Бибиковы поселили меня в большой келье, напротив ванной комнаты. Места в доме хватало. Павел Владимирович с супругой и их младшие дети – Владимир и Наталия - проживали с семьями в этом поместье [370]. А старшая дочь - матушка Татиана - проживала в Сан-Пауло. Матушка Татиана была замужем за иереем Константином Бусыгиным.
С ними я познакомился немного позднее.
С первых дней служить в храме не получилось. Проблема возникла из-за просфорных печатей. У хозяев их не было. Пришлось печати делать самим. Павел Владимирович вырезал их из плотной породы дерева. И только после этого мы приступили к службам.
После служб я коротал время в библиотеке или же ездил с хозяином по городу. В частых беседах и постоянных поездках, мы вскоре крепко сдружились. Павел Владимирович показывал мне Сан-Пауло. Рассказывал об истории города и страны. Гидом он оказался прекрасным. Говорил он не так чтобы много. Но каждое его слово насыщало меня интересной информацией. Несколько раз мы выезжали и за город. Загородные поездки ещё больше обогатили моё представление о стране и её людях.
Штат и город Сан-Пауло – самые богатые и престижные в Бразилии. Здесь сконцентрирована высокотехнологичная промышленность. Прекрасно развита банковская система. На высочайшем уровне находится стройиндустрия и градостроительство. В городе полно спортивных и культурных учреждений. Много культовых зданий, школ и монастырей.
Формально Бразилия страна католическая. А по факту, здесь намешано столько всего, что и не приведи Господь. Ортодоксальное католичество быстро вырождается и на смену ему заступает католичество модерное. И это в лучшем случае. Обычно же, появляется что-то новое и откровенно сатанинское. Новые католические храмы и строятся по-новому. Как правило, ничего общего с храмовой архитектурой они не имеют. А старые храмовые постройки издалека напоминают православные храмы.
В Сан-Пауло есть и несколько православных храмов. Однако действуют только два из них. Остальные храмы пустуют и давно стоят закрытыми. Со слов Павла Владимировича, не хватает ни священников, ни прихожан. А вот раньше хватало.
Однажды, мы проехали в сторону Рио-де-Жанейро больше сотни километров. И по горной местности, и по холмистой равнине. Равнина и холмы в частной собственности. Как в кино, я насмотрелся на фазенды, богатые сельские поместья и на термитники. Термитники высятся повсюду и встречаются даже чаще, чем наши родные муравейники. Из-за термитов здесь нельзя строить деревянные дома. Через два-три года грызуны-насекомые их превращают в труху.
Горы – не менее интересное зрелище. И слева и справа от шоссе - непролазные джунгли. До них, буквально, рукой подать. Из знакомых растений сразу же распознаю лианы, фикусы [371] и банановые деревья. Банановые пальмы легко узнаю по бананам. Павел Владимирович говорит, что бразильские бананы - одни из самых лучших в мире. Что ж, это дело вкуса. Мне они таковыми не показались. Ещё говорит, что земля в Бразилии очень плодородная. В горах она имеет красновато-бурый оттенок. Цвет земли - цвета крови - меня удивляет не меньше исполинских фикусов. Никак не могу привыкнуть к этому цвету.
Все местные дороги в прекрасном состоянии.
Штат Сан-Пауло располагается на горном плато, в семидесяти километрах от восточного побережья Атлантического океана. Восемьсот метров над уровнем моря позволяют штату находиться в наиболее благоприятных климатических условиях. Хотя, для меня они показались не очень-то и благоприятными. Утром и вечером ещё ничего. Терпеть можно. А вот днём становилось душновато. Особенно в городе. И это осенью, и зимой. А как же жить летом?
У меня две трудности.
Никак не могу привыкнуть к местной кухне. И ещё не могу привыкнуть к странным уличным звукам. Звуки исходят от бытовых фирм. Каждая фирма звучит по-разному. Таким образом, они оповещают жителей о своём прибытии. По звукам жители распознают, кто же к ним прибыл. Газовщики ли, люди с продуктами или, к примеру, старьёвщики…
Исходят звуки и от футбольных болельщиков. Звуки, это ещё мало сказано. Футболом здесь заражены все поголовно. От мала и до велика. Играют везде и повсюду. Играют с раннего утра и до позднего вечера. И стар и млад. И каждому забитому голу радуются, как малые дети. А победы вызывают у них такой восторг, что его слышно за многие километры. Если победа, то тогда в воздухе поднимается самая настоящая канонада. И канонада эта не смолкает часами.
Что же касается местной кухни, то Павел Владимирович меня понимает прекрасно. Он следит за рационом питания, что мать родная. В библиотеку, где я занимаюсь, Павел Владимирович неустанно приносит фруктовые салаты. Меня ими подкармливает. Многие фрукты я вижу впервые. При их виде теряюсь, ибо не знаю, как их надо правильно кушать.
- Павел Владимирович, - обращаюсь я к благодетелю. – Простите, меня окаянного, но я не знаю, как эти фрукты кушать. Лучше носить их не надо.
- Это же лучшие фрукты Бразилии, - удивляется Бибиков. - Вы их никогда не видели, потому что их нельзя довезти до Европы. Они быстро портятся. А какие бы вы фрукты хотели?
- Что-нибудь проще и знакомей. Яблоки, груши, виноград…
- Хорошо. Но и эти фрукты я научу вас правильно кушать. Они очень и очень полезные. Прошу вас, вы от них не отказывайтесь.
Ничего не поделаешь, пришлось научиться кушать и экзотические фрукты. На вкус они и правда, оказались превосходными.
Странное дело, но хлеб в Сан-Пауло не в ходу. Он выпекается только в одном месте. И выпекает его выходец из Прибалтики.
Литовец, кажется.
Хлеба в Сан-Пауло, незнаючи, трудно сыскать. А вот бразильское кофе, буквально, на каждом шагу. В супермаркетах он подаётся любому желающему. И подаётся совершенно бесплатно. Рынки в городе очень богатые. По-португальски они называются – «Mercado» и «Supermerkado». Чего там только и нет. Купить можно, практически, всё. С утра на них - дорого, а ближе к вечеру - дёшево. Почти вся продукция сложена красивыми горками на высоких и длинных стеллажах. Покупателю очень удобно подходить и торговаться. Многие берут кукурузу. Любят её аборигены. Едва заметная гниль или трещинка и забракованный овощ или фрукт, тут же, отправляется в бумажную коробку под стеллаж. Что лежит в коробке – можно брать даром. С голоду в Сан-Пауло и при всём желании, не умрёшь.
Отсюда и множество нищих людей.
Зачем же работать, когда вокруг столько еды дармовой?
Из множества рыб - предпочитают прессованную треску. Рядом лежит сёмга, по-ихнему – salmon, на сёмгу – ноль внимания. А, увидев прессованную треску, сразу слюнки пускают и аж, трясутся от предвкушения удовольствия. Для нас треска – обыденность. А для них – «деликатес». Вот и попробуй тут поспорить о вкусах. Пробовал я этот «деликатес»…
Лучше бы и не пробовал.
Подрясника и креста я с себя не снимал. Смотрели на меня, как мы смотрим на африканцев в их национальной одежде.
- Какие-то странные жилые кварталы, - указал я рукой на нагромождения незатейливых строений.
Мы стояли с Павлом Владимировичем на холмистом возвышении. И эти жилые кварталы издали бросались в глаза.
- Это фавелы. То, что вы видите – из самого дешёвого кирпича. Встречаются ещё фавелы из досок и материала попроще.
- Что такое - фавелы?
- Как? Вы ничего не знаете о фавелах? – удивился Павел Владимирович.
- Что-то слышал или читал, но теперь уже позабыл.
- В фавелах живут бедные и разные люди. Они занимаются наркоторговлей, проституцией, скупкой и продажей краденного. Торгуют и скупают оружие. Одним словом, фавелы, это преступные поселения. И ещё - одна из давних и неразрешимых проблем для Бразилии.
- Давайте съездим туда.
- Да, вы, что, батюшка! Нас там сразу убьют!
- Почему убьют? Мы же просто посмотрим и всё.
- Они нас примут или за переодетых полицейских, или за торговцев наркотиками. И обязательно убьют. Ни полицейских, ни конкуренцию эти люди не терпят.
- О, Господи! Как же вы здесь живёте?
Бибиков промолчал и ничего не сказал.
Больше мы к этой теме с Павлом Владимировичем не возвращались. Его ответы показались мне достаточными и вполне убедительными.
На Страстной седмице служить мы начали с Великого четвертка. И Пасху встретили на высоком духовном подъёме. Пришли на Пасхальную службу все. В храме собралось более двадцати человек. Для Бразилии стольких православных людей - предостаточно! Утром, как и положено, сели за стол и разговелись. Чёрной икры я из России не прихватил. Всё ж таки, не по карману. Зато водки привезти не забыл. Научила меня жизни, та первая, французская суета.
После Пасхи я попытался взять чилийскую визу в Сан-Паульском генеральном консульстве. От игуменьи Иулиании поступила тревожная информация, что будто бы на их чилийский приход с миссионерским визитом собирается прибыть один из архимандритов Московской патриархии. Требовалось не только его опередить, но и попытаться вразумить настоятеля храма - отца Вениамина (Вознюк) о нежелательности подобных контактов. Конечно же, по своей собственной воле, я сам ничего не предпринимал. Почти каждый мой шаг был известен и благословлялся правящим архиереем Южно-Американской епархии РПЦЗ (В) – Антонием (Орловым).
И по этому случаю тоже, я заранее созвонился с епископом.
- А зачем вы туда поедете? – спросил, медленно растягивая слова, владыка Антоний.
От подобного вопроса я немного опешил. И это после моих долгих и как мне казалось, исчерпывающих объяснений.
- Владыка, Антоний! После встречи с представителем Московской патриархии, отец Вениамин может перейти на их сторону, и мы потеряем монастырь и приход.
В трубке долго и упорно молчали.
- Ну, хорошо. Поезжайте, - послышалось, наконец.
Слава Богу! Я глубже вздохнул. И на душе отлегло. Согласовывая свои действия на континенте и испрашивая на них благословение, я уже несколько раз общался с владыкой Антонием по телефону. И всякий раз у меня появлялось двойственное чувство.
От одного телефонного звонка я окрылялся, а от другого, наоборот, руки опускались.
Зря мы старались с Павлом Владимировичем. Взять чилийскую визу в Сан-Пауло нам так и не удалось. Вина в том выходила не наша, а российского министерства иностранных дел. Неудача лишний раз подтвердила правоту - российские граждане этому министерству не нужны. Столько накручено различных препонов! Легче попасть, куда-нибудь, на «кулички», чем в нормальную страну.
Созвонились с Уругваем.
- Выезжайте, батюшка, поскорее к нам. Я здесь вам без всяких проблем достану любую визу, - обнадёжил брат Виктор из Уругвая.
У этого человека я должен был крестить мальчиков – близнецов. Мама их и благоверная супруга брата Виктора, скончалась при родах из-за врачебной ошибки [372].
Лучшего выбора у меня не имелось.
Уругвайская виза ещё с Москвы красовалась в паспорте. Поэтому, не откладывая дело в долгий ящик, мы, тотчас же, договорились с Бибиковым и братом Виктором о деталях предстоящей поездки и встречи. На автовокзале Сан-Пауло Павел Владимирович взял мне билет до уругвайской границы. Там меня должен был встретить брат Виктор и на машине отвезти к себе в Монтевидео. С Бибиковым мы тепло попрощались. Он ещё попросил водителя помочь мне ночью правильно сориентироваться. Без знания местности и языка я мог сойти не на той остановке. Автобус тронулся, и я поехал.
От Сан-Пауло до Монтевидео более двух тысяч километров. И почти все эти километры мне предстояло проехать на комфортабельном автобусе, с севера на юг, вдоль западного побережья Атлантического океана. Раньше о таком путешествии я, не то, что мечтать, но и подумать не мог. Со мной в автобусе ехало всего двенадцать человек пассажиров. Несколько корейцев или китайцев, а все остальные – представители местных индейских племён. Позднее, от брата Виктора я узнал, что на подобную туристическую поездку может раскошелиться далеко не каждый житель южноамериканского континента. Такая поездка по карману лишь человеку среднего и более высокого жизненного уровня или достатка.
Так же, как и я, мои попутчики радовались и наслаждались поездкой.
С окна второго автобусного этажа открывалась картина достойная кисти художника. Слева, по ходу автобуса – голубел и плескался Атлантический океан. А справа величаво высились - холмы и горы. Покрытые непроходимыми, изумрудного цвета, джунглями, они отдалённо напоминали мне горы Якутии Что справа, что слева от дороги – невероятно красивое зрелище. Этот пейзаж долго не менялся. Глядя на такую божественную красоту, хотелось ехать и ехать…
Мы и ехали.
Азиаты и индейцы пытались со мной разговаривать. На дальнюю дорожку, для столь любознательных попутчиков, Павел Владимирович специально научил меня одной фразе. Эта фраза должна была им всё разъяснять. По-португальски она звучала, примерно, так: «Senior! No espaniol. Padre russia orthodox». Или в русском переводе: «Сеньор! Я не испанец. А русский православный священник». На португальском языке, после слова «Senior», я рукою указывал на себя и затем продолжал говорить дальше.
Как ни странно, но некоторые люди меня хорошо понимали и вскоре оставляли в покое. Однако далеко не все. То ли произношение у меня получалось безупречным, что, впрочем, полностью исключалось, то ли еще, почему, находились более любопытные аборигены, которые часто продолжали меня расспрашивать дальше. Понятно, что кроме конфуза, ничего путного из таких упорных расспросов не выходило. С тем же успехом можно было расспрашивать и неодушевлённый предмет.
Чем дальше на юг, тем растительность становилась беднее. Такую перемену я заметил не сразу. А спустя сотни километров пути, когда мы уже миновали большие бразильские города - Порту-Алегри и Флорианополис. Эти города мне понравились. Особенно понравился Флорианополис. Расположенный на зелёных гористых холмах, он, как огранённый алмаз, блистал своими суперсовременными высотными (и не очень) зданиями. И мне казался городом из далёкого будущего.
После этих больших городов, стали чаще встречаться мелкие крестьянские поселения. Несколько раз, я из окна автобуса видел, как одинокие крестьяне вырубают своими мачете джунгли, наступающие на их крохотные земельные наделы.
Автомобильная трасса казалась не слишком загруженной. Автобус двигался на приличной скорости. И нас почти не обгоняли. Навстречу катились большегрузные автомобили, доверху нагруженные кокосовыми орехами, тростником, красным лесом, скотом и ещё, Бог знает, чем.
Ближе к уругвайской границе пошли большие озёра и рассыпанные по их побережью, рыбацкие деревушки. У озёр моё внимание привлекали не деревушки, а, почему-то, заросли незнакомого высоченного кустарника, похожие на заросли бамбука.
Автобус несколько раз останавливался. И тогда мои попутчики с радостью «высыпались» на улицу. Выходил размять ноги и я. Несмотря на уже позднюю бразильскую осень, на улице стояла настоящая теплынь. Разминка длилась недолго. Через десять-пятнадцать минут, стюарды поторапливали пассажиров занимать свои места. Мы садились в автобус и с удовольствием продолжали путешествие. Два или три раза останавливались у придорожных ресторанов. В ресторанах нас кормили бесплатно. Питание входило в стоимость приобретённых билетов. Шведский стол изобиловал множеством блюд. Пищу я выбирал с повышенной осторожностью. Клал в тарелку салаты, фрукты и рыбу…
Вместо хлеба предлагались крохотные белые булочки.
И всё же, дальняя дорога меня утомила. День быстро закончился. Наступила непроглядная ночь. Чем ближе приближалась граница, тем становилось волнительней. Я опасался разминуться с братом Виктором. Один раз даже пробовал объясниться с водителем. Но он так ничего и не понял. Всё белозубо и виновато мне улыбался, разводя в стороны своими руками. Оставалось только одно – молиться и уповать на помощь Господа Бога и заступничество Царицы Небесной.
Крест и чётки со мной.
А всё остальное приложится.
На границу автобус прибыл в два часа ночи. Стюарды собрали паспорта и двинулись к пограничникам. Минут через десять в салон заглянул брат Виктор.
Слава Богу!
- Батюшка, благослови! – увидев мою заспанную персону, громко произнёс по-русски православный человек.
- Бог тебя благословит, братец ты мой дорогой – обрадовано поприветствовал я брата Виктора.
- Поехали домой, батюшка.
- Так, ведь, куда же ехать без паспорта?
- Паспорт сейчас принесут.
С сумкой я выбрался из автобуса и ещё раз благословил брата Виктора. На улице оказалось довольно прохладно. В ожидании документа пришлось немного замёрзнуть. А вот, наконец и стюарды. Виктор забрал у них документ и передал его мне.
Мы сели в легковую машину и сразу же, тронулись в путь по широкой и хорошей дороге. До Монтевидео оставалось проехать ещё около трёхсот километров. Перед мощными фарами BMW тьма легко расступалась. И машина неслась в одиночестве, оставляя за собой быстрые дорожные километры. Дорожная монотонность действовала усыпляюще. Чтобы не задремать, мы, всё время, о чём-то разговаривали, вспоминая Россию и интересные жизненные эпизоды.
- А, что это не видно никого на дороге? – спросил я у Виктора.
- Батюшка, кто же из нормальных людей, куда-то поедет в три часа ночи? – вопросом на вопрос ответил мне мой благодетель.
«И верно» - подумалось мне. – «На такое позднее путешествие отважатся только русские. Это нам всё нипочём. Не чтим и не понимаем ни дня, ни ночи».
- Давай остановимся, - попросил я брата своего во Христе. - Хочу посмотреть на звёздное небо. Никогда не видел Южный Крест. Хочется на него посмотреть.
Виктор остановил машину.
Открыв дверцу и выбравшись на обочину, я задрал голову кверху. Незнакомое звёздное небо показалось мне бедноватым. Звёзды мерцают не так ярко и густо. Наше небо гораздо богаче. Ни тебе Полярной Звезды, ни Медведицы.
- А где же Южный Крест?
- А, вон, там, батюшка, - и брат Виктор указал рукой в небесную вышину.
Потребовалось чуть дольше времени, чтобы созвездие хорошо рассмотреть. И на крест-то не очень похоже. Прохлада нас поторапливала. Ночное небо, хотя и не очень яркое, но, всё же, достаточно освещало слегка холмистую степь. Лёгкий ветерок приносил незнакомые запахи. Никаких звуков уши мои не улавливали. Вокруг стояла мёртвая и чужая тишина.
- Уругвай напоминает нашу Прибалтику, - уже в машине стал рассказывать братец Виктор. – Страна небольшая и экологически чистая. За экологией в Уругвае очень строго следят. Здесь нет ни заводов, ни фабрик. Поэтому нет и работы. Многие молодые уругвайцы выехали в США и Канаду. Там они трудятся и зарабатывают себе на жизнь. В отличие от Бразилии, в Уругвае мало преступности. К примеру, в Монтевидео за год совершается не более десятка убийств. И это в полутора миллионном городе. С климатом тоже - несколько проще. Русскому человеку он лучше подходит.
- Русских здесь много?
- Не так, чтобы много, но есть. В Монтевидео имеется и зарубежный храм. Раз в два месяца из Аргентины прилетает туда священник. Службу отслужит и вновь улетает. Нашу диаспору такое редкое служение не устраивает. Оставайтесь с нами, батюшка! В течение десяти дней я вам сделаю вид на жительство. А через пять лет, вы получите уругвайский паспорт. Храм мы легко отберём. Это не проблема. И вы станете нашим священником. Оставайтесь, батюшка!
Предложение брата Виктора оказалось для меня столь неожиданным, что я обеими руками «схватился» за голову. В общем-то, думать тут было не о чём. Известно, что, кроме России, жизнь за границами – мне в великую тягость. Во Франции это многократно проверено. По большому и малому счёту, Америка Южная мне не слишком-то нравилась. Будто блестящая вещь у старьёвщика. Сегодня она новая и притягательная. А завтра не знаешь, как от неё избавиться. И куда её деть. Если здесь задержаться, то можно запросто спиться. А то и не ровен час, деградировать и отупеть. Да и местный народец здесь, всё больше, пустой и зомбированный. С ним очень быстро соскучишься и не сегодня - завтра, помрёшь.
Однако на пламенный призыв брата Виктора, я ответил долгим молчанием. Пусть думает о чём угодно и понимает меня, как хочет.
К нему домой мы приехали, когда уже совсем рассвело. Проживал Виктор, в только что построенном коттеджном посёлке, не так далеко от уругвайской столицы. После знакомства с его семьёй [373], лёгкого завтрака и короткого отдыха, мы направились с ним дальше. В Монтевидео. Виктор хорошо знал этот город и прекрасно в нём ориентировался. Он показал столицу Уругвая такой, какая она есть. Сам город мне не понравился. Монтевидео показался, скорее, вымирающим и провинциальным, чем просто столичным. Если что и понравилось, так это его набережная.
Вторая южноамериканская река Парана [374] впадает в Атлантический океан у самого Монтевидео, отделяя город и весь Уругвай от соседствующей Аргентины. На набережной я увидел редких удильщиков и активно разминающихся людей.
Рыба, на моё удивление, оказалась невероятно дешёвой. Если в Бразилии её стоимость такая же, как и у нас, то в Уругвае она намного дешевле.
- Почему так? – спросил я у Виктора.
- А они её почти не едят.
- И что же едят?
- В основном - говядину, баранину и свинину. Правда и птицей не брезгуют. А рыбу не очень-то жалуют. Оттого и такая дешевизна.
На улицах Монтевидео довольно много и нищих. Но с бразильскими нищими их не сравнить. Эти живей и гораздо настырней. Свиду уругвайцы – народ неказистый и низкорослый. С моим ростом и комплекцией, находиться среди них не очень-то и удобно.
Коренных уругвайцев брат Виктор не хвалит. Судя по его рассказу, своим поведением и образом жизни, они здорово смахивают на наших цыган или же северокавказцев. Белого человека эти люди часто норовят обмануть или же поставить в глупое и неудобное положение. Когда такое у них получается, то это доставляет им огромное удовольствие. Как же, можно тогда вволю похвастаться перед своими соплеменниками. Мол: «смотрите все и завидуйте, мне удалось обмануть белого человека» [375].
Прямо детский сад какой-то.
Крещение детей состоялось в храме Вселенского патриархата. Я испросил у своего архиерея благословение, а брат Виктор легко договорился о предстоящем Таинстве с настоятелем этого храма. На крещение младенцев пришло очень много людей. И русских и испано-говорящих. Люди пришли по приглашению брата Виктора. Им хотелось посмотреть, как же будет крестить младенцев батюшка-иеромонах из далёкой России. Что-то они слышали о полном погружении, но никогда его не видели наяву. Храм заполнился полностью. Люди сидели на скамейках и даже плотно стояли в проходе. Присутствовало несколько человек из крупного бизнеса и муж с женой из первой волны иммиграции.
Когда я трижды погружал в купель младенцев, то, при каждом погружении, в храме раздавался громкий эмоциональный вздох. От такого крещения все были в неописуемом восторге. Младенцев нарекли именами – Николай и Геннадий. После крещения пришлось сказать короткую проповедь. Переводил мои слова высокий русский дворянин.
В Уругвае я долго не задержался. Следовало поторапливаться в Чили. Освятил ещё две квартиры. И по приглашению, побывал в гостях у предпринимателя. При освящении квартир познакомился с одной русской семьёй – пожилой женщиной и её дочерью. Они не так давно вернулись из СССР. Весьма интересную и поучительную историю рассказала мне мать.
Война её забросила в Уругвай. Муж вскоре умер. И оставшись с малым дитём на руках, она не знала, как дальше и жить. Помогла Русская Православная Церковь Заграницей. С Божьей помощью, выучила испанский язык и по протекции православных людей, смогла устроиться на хорошую работу. Так бы и жила. Ан, нет. Соблазнил её дьявол, в лице советского посольства, вернуться в СССР. В посольстве женщине наобещали «молочные реки с кисельными берегами».
А на самом деле её и дочку отправили на советскую каторгу.
Вернувшихся на родину «уругвайцев», отвезли прямиком на хлопковые поля Узбекистана. Где они и проработали несколько тяжеленных лет. Только с большим трудом и не иначе, как по милости Божьей, удалось вырваться в Уругвай обратно. Теперь, так вот, здесь и живут. Дочь работает медсестрой, а она получает уругвайскую пенсию по старости.
Уругвай запомнился интересными людьми. Эвкалиптовыми и мандариновыми рощами. Местным, сероватым кирпичом и уличными печками у домов.
Как и обещал, брат Виктор легко достал мне чилийскую и аргентинскую визы. Чилийское министерство иностранных дел в день обращения за визой бастовало (!) и какую-то нужную мне бумагу не могло дать. Однако посол Чили в Уругвае – сеньор Рикардо - позвонил своей знакомой прямо в министерство и через несколько минут необходимый для визы документ пришёл из Сантьяго по факсу. А с аргентинской визой, вообще, никаких проблем не возникло.
Простота и любезность дипломатов приятно меня удивила.
На самолёте в Сантьяго лететь мне не захотелось. Желание посмотреть в дороге Аргентину пересилило время и скорость. И я снова выбираю автобус. Брат Виктор накупил мне в дорогу разных продуктов. Расстаёмся мы с ним на автовокзале Монтевидео.
Прощаемся уже, как старые и добрые друзья.
В автобусе собралось много разноплемённых людей. И туристов, и иммигрантов. Путь нам предстоит долгий. Сначала по Уругваю. Потом через всю пампасную Аргентину до города Мендоса. И дальше, перевалив андский перевал, уже до ворот чилийской столицы. Брат Виктор, спаси его Христос, специально купил мне билет на самое видное и обзорное место. Я сижу один, впереди всех и в широченное автобусное окно, любуюсь открывающимися придорожными видами.
Проезжаем по мосту широченной реки Параны. Вода в Паране мутная. С высоты моста по руслу открывается вид на многие километры. Людей река кормит. Помимо проходящих судов, портовых кранов и редких рыбацких лодок, по обоим берегам вижу прибрежные постройки жилого назначения. Но особого оживления на реке незаметно. Оно и понятно – Уругвай – не индустриальная страна. Развито только сельское хозяйство. Отчасти, бумагоделательная промышленность [376].
И ещё сфера обслуживания.
Пограничный город на границе Уругвая и Аргентины разделён почти пополам. Деньги здесь входу у населения, как уругвайские, так и аргентинские. Все пограничные формальности выполняются нашими стюардами. Пассажирам остаётся лишь спокойно сидеть и наблюдать. Пограничникам мы не особо нужны. Они на нас не смотрят и ничего не проверяют.
Стюарды долго у них не задерживаются и вскоре заходят в автобус. Раздают удостоверения [377] и отмеченные штампами, паспорта. Всё в порядке. Можно трогаться в путь.
Дальше дорога идёт уже по Аргентине. Аргентина заметно беднее Уругвая и гораздо беднее Бразилии. Вдоль дороги полно плакатов. Их информация даже мне понятна. На плакатах написано и нарисовано, что Фолклендские острова, это не английская, а аргентинская территория. Спорить трудно. Да и не с кем. Может, оно и так. По мне, так, всё равно.
Пампасы – что наша степь, только в несколько раз беднее и непригляднее. На многие сотни километров виден лишь один бурьян, да чахлые кустики незнакомых кустарников. Вот и все тебе пампасы. Слово – известное. А на деле оно, куда прозаичнее. И смотреть не на что. Скоро мы въезжаем в тёмную ночь. Я медленно засыпаю. И просыпаюсь, когда уже рассвело.
Примерно, за триста километров до Мендосы, на горизонте появляется знакомая горная дымка. Это Анды. Слева и справа от дороги, тянутся сплошные фруктовые сады и виноградники. И ни конца, ни края им не видать. Кое-где работают люди.
Павел Владимирович Бибиков мне, как-то, рассказывал, что в Мендосе находятся самые большие в мире винные погреба. А город сам миллионный. Вместе с Андами показался и он. Город меня не притягивает. Смотрю только на Анды.
Зрелище величавое.
Однако места в Мендосе хватает. Между домами огромные пустые пространства. На автовокзале нам меняют автобус. Я боюсь потеряться. Поэтому, всё время держусь рядом с попутчиками. Но разве за ними удержишься. Как ни старался, всё ж таки затерялся среди незнакомых людей. И едва не остался в Мендосе. Увидел своих попутчиков уже садящихся в автобус.
Начинается предгорье Анд. От Мендосы автобус всё медленней и медленней ползёт вверх. Шоссе забито легковыми и грузовыми машинами. Грузовых машин больше. Шофера сбиваются в кучу и на примитивных костерках готовят себе простенькую еду. Наш автобус двигается упорно вперёд. Его, почему-то, все беспрепятственно пропускают.
В горах дорога становится покатней и уже. А, следовательно, становится и опасней. Анды мне нравятся. Но с горами Якутии их не сравнить. Здесь и красок меньше, и размах не тот. А хребет, как ты его не вытяни, он и есть хребет. Пусть и довольно широкий. Ещё выше, виднеются остатки железной дороги. Прямо, как из ковбойского боевика. Ржавая узкоколейка то появляется, то обрывается снова. Теперь она проходит рядом с шоссе. Как они по такой утлой железной дороге и ездили? Со всех сторон крутизна – пропасти и обвалы. А сама железная дорога выглядит просто пародией.
Впрочем и шоссе это, тоже, не лучше. Из-за покатости, можно легко свалиться в пропасть. Хотя разбитых машин там не вижу. Едем мы всё ещё по Аргентине. Начали попадаться снежные места и горнолыжные курорты. Везде, где только возможно, полощутся аргентинские национальные флаги. Из истории мне известно, что Чили и Аргентина много воевали за спорные пограничные территории. Всё никак не могли провести границу по Андам. Наконец, провели и успокоились.
Надолго ли?
Чем ближе к границе, тем ещё больше машин. Автобус стал чаще останавливаться. На снегу отчётливо виднеются заячьи следы. Неужто и здесь живут косолапые? На одной из длительных остановок пассажиры не выдерживают и выскакивают из автобуса прямо к снежным сугробам. Блистают вспышками фотоаппараты, трещат кинокамеры. Люди впервые увидели снег и радуются ему словно дети. Зовут и меня к себе. Наверное, думают, что снег для человека с крестом тоже экзотика.
Пока они радуются, я знакомлюсь с индусом. С помощью пальцев и мимики, а так же и отдельных знакомых слов – объясняемся. Если смотреть по географической карте, мы с индусом почти что соседи. Он едет в Чили к родственникам. Хочет открыть в Сантьяго индийский ресторан. По этому случаю везёт с собой большущий чемодан, битком набитый национальными индийскими специями. Опасается, как бы его, с этими специями, не тормознули на чилийской границе. Без них индийская кухня - не кухня. В Чили нельзя провозить сельскохозяйственные продукты. А насчёт специй, он не уверен.
Потому и опасается.
Подходит ко мне знакомиться и пожилой католический пастор. Пастор указывает на мой крест. А после тычет в себя узкой ладошкой и говорит.
- Pastor catholica.
- А где же твой крест? – спрашиваю, его я по-русски и для сущей понятности показываю на свой священнический крест.
Католический пастор меня хорошо понимает. И тут же, в смущении, опускает долу глаза. Будто нашкодивший школьник. Никак ему стыдно, что он всего лишь католик, а не православный человек. Всё они хорошо понимают. И ересь, тоже, свою понимают прекрасно. Давнюю ересь. На автовокзале в Сан-Пауло, увидели меня с Павлом Владимировичем Бибиковым, сидящие в зале ожидания молодые католические монашки. Точно не знаю, какого ордена. С такими высокими и ослепительно белыми головными уборами. Увидели, так ещё издали, встали и поклонами поприветствовали.
И здесь, в автобусе, подошёл и смущённо представился. Правда, без низких поклонов. Благодатность и православную чистоту от верующего человека не спрячешь. Пусть и католика. О, Господи! Бедные, бедные люди. Из-за неуёмного модернизма, некоторые из ортодоксальных католиков переходят в православие. Одного такого молодого человека мне довелось видеть в Бразилии.
Вынужденная остановка заканчивается. Промёрзшие, но довольные люди садятся на свои места. Автобус трогается. И медленно двигается дальше.
Аргентинские пограничники пропускают нас без проблем. А чилийцы задерживают на целых восемь часов. Не успевают они досматривать длинные грузовые фуры и багаж пассажиров. Проверяют на совесть, потому и не успевают. К ним выстроилась длинная, многокилометровая очередь. Очередь продвигается медленно. Но, всё же, продвигается.
Телефона у меня нет. А, как-то, надо позвонить в Сантьяго и предупредить о непредвиденной задержке. В противном случае, меня могут и не встретить. Выручает немецкая супружеская чета. С их мобильного телефона, я и сообщаю отцу Вениамину (Вознюк) о возникших неприятностях. Отец Вениамин передаёт мои слова матушке Иулиании.
Наконец, подходит и наша очередь.
Главная здесь молодая женщина – офицер. Сразу выделив меня из общей очереди и кивнув на крест, она спрашивает.
- Pastor catholica?
Я отрицательно верчу головой и отвечаю ей заученной фразой.
- Seniora! No espaniol. Padre russia orthodox.
Женщина удивлённо на меня смотрит. И белозубо улыбается. А после, приглашает пройти в офис. Там она ставит отметки в паспорте, а заодно и в своём толстом казённом журнале. Я её осеняю крестом и от всей души, и по-русски, благодарю. Теперь можно направляться и в тёплый автобус. Но в тёплый автобус я не спешу. Автобус ещё успеется.
Остаюсь в холодном помещении и наблюдаю за индусом.
Он, бедный, страшно волнуется. Когда подходит его очередь, то, еле-еле открывает свой переполненный чемодан. Вижу сплошные кулёчки, цветные пакетики. Офицер начинает рыться в чемодане и о чём-то спрашивает хозяина по-английски. Индус робко ему отвечает. По офицеру видно, что ответом он не очень удовлетворён. Проверка надолго затягивается.
Кажется, мой попутчик попадает в критическое положение. «Как же ему помочь?». После трудных мысленных поисков, нахожу только один приемлемый выход. Подхожу к женщине-офицеру и пытаюсь ей прояснить ситуацию с соседом-индусом. На толковое объяснение, ни слов, ни мимики у меня не хватает. Но женщина старается, всё же, понять. Чудом, но это ей удаётся. Она направляется к своему офицеру-коллеге. Они мило беседуют. После чего, отпускают индуса…
В Сантьяго мы приехали ночью.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
В Южной Америке. (Продолжение). «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его».
(1. Ин. 3:1).
Спаси Христос игуменью Иулианию!
Она прождала очень долгие и утомительные часы. Встретила меня матушка на автовокзале Сантьяго, у самых автобусных дверей. Прихватив дорожную сумку, от вокзала мы поехали с ней по центральным улицам ночного Сантьяго. Матушке Иулиании захотелось показать дальнему залётному гостю красоту ночной чилийской столицы. Город пылал торговой рекламой. Иллюминацией представительских зданий и офисов. И ярким светом уличных фонарей. Меня клонило в сон. Матушка о чём-то увлечённо рассказывала. Несколько раз упомянула имя отца Вениамина (Вознюк). Я в пол-уха прислушивался к её словам. И всё смотрел на улицу, и по сторонам. Сантьяго мне нравился.
Особенно там, где меньше всего этажей. Малоэтажность почти не препятствовала фантастической игре искусственного светового потока.
Город показался на удивление чистым и современным. Несмотря на очень позднее время, а было уже больше двух часов ночи, нас, то и дело, обгоняли дорогие легковые машины, а на пешеходных тротуарах приветственно поднимали руки хорошо одетые девушки. Чуточку позднее, я догадался об их древней профессии. И тогда мне стало неловко и стыдно.
Сантьяго расположен в Андах. Вокруг высокие горы. Много низин и холмов. И куда ни глянешь, повсюду шикарные виллы и красивой постройки, дома. Особенно их много на холмах. Высокие места считаются самым престижным местом в городе. Матушка Иулиания и архимандрит Вениамин – частные собственники одной такой престижной горы.
Туда мы и направляемся.
Дорога пошла круто вверх. Справа горная стенка. Но матушка с управлением прекрасно справляется. Чувствуется, что ей приходится часто водить машину. Водитель она опытный и очень надёжный. Просит меня поселиться в доме у архимандрита Вениамина. Я не отказываюсь. Гостям не пристало капризничать. И мне не впервой. Где поселят, там и заночую.
Машина сворачивает направо и минут через пять останавливается. Слава Богу. Приехали. У своего дома нас встречает отец Вениамин. Рядом, у его ног, крутится огромный пёс. «Бона» его зовут. Эта собачья кличка мне ни о чём не говорит. Бону я невольно сравниваю с Ураганом отца Вениамина Жукова. Немного темновато, но Бона, кажется, намного лохматей и гораздо больше. Настоящий волкодав. На меня он не лает. Подошёл, обнюхал и сразу же, отошёл к хозяину.
Умный пёс.
Матушка Иулиания распрощалась. А мы с отцом архимандритом зашли в его дом. Дом двухэтажный. И видно, что построен он не сегодня. От ужина я отказался. Отец Вениамин настаивать не стал. Показал мою комнату и пожелал спокойной ночи.
После утренней молитвы и туалета, я ближе познакомился с Боной. В коридоре стоял большой мешок с сухим собачьим кормом. А рядом валялся ёмкий совочек. Так что наше знакомство получилось приятным. И уплетавшему за обе щёки корм Боне, и мне.
- Вы его, отец Дамаскин, не балуйте, - раздалось у меня за спиной. – Он и так жирный. Всё время охотится в горах на кроликов. Их там полно.
- За какими кроликами? – в недоумении, спросил я. – Может за зайцами?
- Нет. Зайцы у нас не водятся. Одни только кролики.
- Я видел на перевале следы. Думал, что следы эти заячьи, - пояснил я отцу архимандриту.
- Пошли, батюшка, позавтракаем. Матушка Иулиании только что позвонила. Они нам там завтрак шикарнейший приготовили.
Ну, что ж. Пошли, так пошли. Кушать мне ещё совсем не хотелось. Но грех отказываться от чистосердечного приглашения.
С нами увязался и Бона.
По дороге к матушке, мне удалось рассмотреть город Сантьяго и Анды. Старенький архимандрит, заметно приволакивая правую ногу, шёл с палочкой впереди. За нами следовал Бона. А я тащился между ними и во все глаза разглядывал внизу лежащий город. Часто крутил головой, оглядываясь на заснеженные горные вершины. Вершины величаво высились у нас за спиной. А впереди над Сантьяго висела чёрная дымка смога. Однако взору она не очень мешала.
Слева и дальше по всему горному склону, высятся многометровые кактусы. А справа и прямо у дороги, растут лимоны. Впервые в жизни я увидел эти растения. Кактусы, те, далеко. А лимоны, вот они, рядом. Даже можно сорвать. На одной ветке - цветы. На другой ветке - они завязались в бутоны. А на третьей веточке – плоды уже можно срывать.
И всё это на одном лимонном дереве!
Рядом с лимонами стоят какие-то высокие незнакомые деревья с красными плодами, похожими на хурму. На эти деревья уселась многочисленная стая огромных зелёных попугаев. Каждый попугай, раза в два, больше нашего голубя.
Видно, как попугаи играючи расклёвывают семечки у плодов.
- Что это за плоды? – спрашиваю я батюшку.
- Где? – останавливается и поворачивает ко мне голову батюшка.
Я указываю в сторону больших попугаев рукой.
- Это хурма, - протяжно отвечает отец Вениамин.
- Почему же вы её не собрали?
- А мы её не едим. А вы разве едите?
- Да. У нас это ценный фрукт. Особенно в зимнее время.
- А у нас одни только птицы едят.
Бона нас обгоняет. Он торопится к женщине с ведром. Она только что подоила корову. На огороженном участке пасутся корова и тёлка. А чуть дальше вальяжно лежат разжиревшие свиньи. По всему виду, кормят их хорошо. Ишь, наелись так, что и повернуться лень. Это хозяйственный двор. Мы подходим ближе. И в женщине я узнаю инокиню [378] Иоанну (Гриненко) из Славянска-на-Кубани.
- Христос Воскресе! Сестра Иоанна! – приветствую я пасхально инокиню
- Воистину Воскресе! Отец Дамаскин! – отвечает радостно моя сестра во Христе.
Между нами завязывается короткий разговор. Дольше говорить неудобно. Надо поторапливаться к матушке Иулиании.
- Пойдёмте с нами на завтрак, сестра.
- Я уже позавтракала, - и инокиня смущённо указывает рукой на целую гору белого хлеба и на чан с крупной варёной картошкой. – Сейчас попью молочка. И мне будет достаточно. Вам принести парного молочка, отец Вениамин?
- Принесите.
Мы на время прощаемся с инокиней из России и идём дальше, в гости к матушке Иулиании. Она настоятельница женского монастыря в честь святого Праведного Иоанна Кронштадтского. Вместе с игуменьей и инокиней Иоанной, в монастыре ещё спасаются монахиня Иустиния и несколько трудниц. Монастырь содержит приют маленьких девочек, набранных из неблагополучных семей. Рядом находится школа. Школа тоже носит имя святого Праведного Иоанна Кронштадтского.
Вот и весь монастырский комплекс.
В трапезной я знакомлюсь с обслуживающим персоналом и девочками из приюта. Они что-то очень быстро говорят по-испански и открыто улыбаются. Из сказанного понимаю только одно слово - «padre». После обычной молитвы перед едой и благословения, садимся за столы. Пища непривычная. Но ради приличия, отдаю ей должное. Хотя и с превеликим трудом. И архимандрит Вениамин кушает без заметного аппетита. На столе много фруктов. В том числе и хорошо знакомых лимонов. В Чили лимоны растут везде. И никто их не считает культурным растением. Если назвать эту страну – Лимонией, то не сильно и ошибёшься. Лимонный сок чилийцы добавляют во многие [379] блюда.
После завтрака мы возвращаемся к себе домой. Бона бежит теперь впереди. А мы тащимся следом. Сразу же проходим на кухню. Кухня у отца Вениамина большая. Есть где разместиться с комфортом. В углу стоят огромные формы для свеч. Я таких форм и не видел. Батюшка льёт восковые свечи по заказу католических храмов и монастырей. И тем хорошо подрабатывает. Пасека у него своя. Так что воска достаточно. Отец Вениамин с удовольствием выпивает своё молоко. А я пью горячий чай. После пития, мы с батюшкой долго беседуем. По моей просьбе, архимандрит Вениамин рассказывает о себе и о своей жизни. Ему уже минуло за восемьдесят. Есть о чём рассказать. Большую часть жизни он провёл в Южной Америке. А родом он из под Житомира. В сорок третьем году, вместе с владыкой Леонтием (Филиппович) Чилийским, они покинули пределы советской России и после долгих мытарств, оказались в Парагвае.
- Как же вы там жили, там же очень жарко? – спрашиваю я с удивлением архимандрита.
- Жарко, - кряхтя, соглашается батюшка. – Вначале было тяжело. Но потом, с Божьей помощью, мы с владыкой привыкли. Владыка Леонтий очень много разъезжал по епархии. И я вместе с ним. А когда возвращались, жили в ветхой избушке. Всё бы ничего, да, змеи нам покоя не давали. Повыгоняешь их с комнат, а они возьмут и обратно налезут. И все ядовитые. Чёрные такие.
- А здесь их нет?
- Кого, змей? Нет. В Чили змей таких нет. Здесь маленькие такие. Прихожу, однажды, в комнату, а она лежит на моей кровати.
- И что вы с ней сделали?
- А, ничего. Позвал работника. И он куда-то её выбросил.
У отца Вениамина аргентинский паспорт. Но уже много лет проживает он в Чили. Проживает не одно десятилетие.
- Почему вы не поменяете гражданство? – спрашиваю я у батюшки.
- Иностранцев здесь больше уважают. Потому и не меняю.
От своей жизни архимандрит плавно переходит к повествованию о Леонтии Чилийском. Он очень его уважает и похоже, что всё ещё любит. Рассказывает, как они начинали здесь в Чили служить. О любви владыки Леонтия к церковному пению. О встречах с интересными людьми. И периоде власти Пиночета. Моё повышенное внимание отца архимандрита подзадоривает. И он с увлечением рассказывает дальше. О том, как он отказался от архиерейства и даже секретарства в Синоде РПЦЗ. Но это уже после смерти владыки Леонтия. От владыки Леонтия у него осталась светлая и добрая память. Неожиданно, отец Вениамин широким шагом выходит из кухни. Затем, быстро возвращается и отдаёт мне в руки, завёрнутый в плотную бумагу, большущий пакет.
Прямо руки все оттянуло.
- Что это?
- Это архиерейское облачение владыки Леонтия. Возьмите его себе, отец Дамаскин. Я дарю вам это владыкино облачение. И прошу вас, его принять.
- Да, что вы, отец Вениамин! Я же не архиерей! Я никогда не приму от вас такого дорогого подарка. Подумайте сами, зачем иеромонаху архиерейское облачение?
- Вы ещё такой молодой, отец Дамаскин. Вы очень скоро станете архиереем. Я вам предсказываю. Я это предчувствую.
- Не приведи Господь, отец Вениамин. Зачем вы мне такое говорите.
Однако батюшка остаётся неумолим. «Как же так отказаться от облачения, чтобы он не настаивал?» - постоянно вертится в моей голове. Наконец, мысль проясняется и я, поднимаясь со стула, передаю пакет его законному хранителю.
- Отец Вениамин. Дорогой. Давайте поступим так. Вот, когда я стану архиереем, тогда вы это облачение мне и пожертвуете. Хорошо?
Батюшка расслабился и призадумался.
- Ну, хорошо, - с трудом соглашаясь, принимает он назад облачение.
У меня, аж, от сердца отлегло. Слава Богу! Согласился. Не то бы пришлось мне носиться с такой «неподъёмной» ношей.
От одного стыда можно до смерти угореть.
Разобравшись с архиерейским облачением владыки Леонтия Чилийского и совсем уже успокоившись, мы снова мирно беседуем. И тут выясняется, что архимандрит Вениамин (Вознюк) на службах поминает двух архиереев из разных церковных юрисдикций. Митрополита Виталия (Устинова) из РПЦЗ (В) и епископа Александра (Милеанта) из РПЦЗ (Л).
- Так же недопустимо, отец Вениамин.
- А я поминаю так. Пусть сами там разбираются.
Как я ни стараюсь, но все мои доводы и убеждения ни к чему хорошему не приводят. Отец архимандрит остаётся при своём мнении.
- Я так поминать не буду, - говорю я в сердцах.
- Ну и не поминайте, - кротко соглашается батюшка.
Рядом с его домом стоит небольшая церквушка. Там в субботу мы служим Всенощную службу. Служу я. И поминаю на ектеньях митрополита Виталия (Устинова), как Первоиерарха РПЦЗ (В) и епископа Антония (Орлова), как правящего архиерея Юно-Американской епархии. Матушка Иулиания поёт и читает на клиросе. В храме вместе с нами молятся: монахиня Иустиния, инокиня Иоанна, родственники отца Вениамина и маленькие девочки из приюта святого Праведного Иоанна Кронштадтского. Храмик внутри очень маленький, поэтому кажется полностью заполненным молящимися людьми.
Рано утром, с отцом Вениамином, мы едем на его «допотопной» машине в Сантьяго. Машина подозрительно скрипит и покачивается из стороны в сторону. Но по дороге едет уверенно. В новом храме мне предстоит отслужить Божественную Литургию. Я немного волнуюсь, но виду не подаю. Из автомобильного окна наблюдаю за чилийской столицей. Город меня впечатляет. Если бы только не автомобильные выхлопы. Они проникают в салон и через два десятка минут, у меня начинает очень сильно болеть голова. Сантьяго расположен в обширном горном ущелье. Со всех сторон высятся горы. Машин на улице много. А выхлопным газам некуда деваться. Привыкнуть к такому воздуху невозможно.
Храм и прихрамовые постройки все новые. Расположены они в спальном районе города. Вокруг виднеются малоэтажные дома и не слишком богатые виллы. На улице спокойно и тихо. Воздух здесь не такой, как в городском центре. Им вполне уже можно дышать. Внутреннее убранство храма поражает множеством старинных икон, дорогих лампад и подсвечников. Акустика в храме просто удивительно невероятная. Идеальная акустика. В таком великолепии мне ещё никогда не доводилось служить.
Волнение моё нарастает.
Я читаю входные молитвы. Затем, переоблачаюсь и совершаю Проскомидию. Отец Вениамин куда-то вышел на улицу. В храме только я и на клиросе одинокий чтец. Время уходит. Пора начинать читать Часы. После моего возгласа, чтец читает третий час. Потом час шестой. Я совершаю каждение Алтаря и всего храма. В храме, по-прежнему, нет никого из прихожан.
Одни только Ангелы...
- Благословенно Царство…
Литургия Оглашенных…
Литургия Верных…
На клирос подходят матушка Иулиания с девочками из приюта. «Верую» и «Отче наш» девочки с матушкой поют ещё и по-испански. С непривычки режет ухо слово - «Senior». Так они величают Господа Бога. Только после «Отче наш», храм постепенно заполняется пожилыми людьми. Их не более сорока человек. Кроме меня, почему-то больше никто не причащается.
После Божественной Литургии, я недоумённо спрашиваю у архимандрита Вениамина о странном порядке на приходе. И о том, почему верующие люди так поздно приходят на службу. Грешным делом, у меня создалось впечатление, что они приходят не в православный храм, а, будто, в светский клуб по интересам. Приходят не для того, чтобы помолиться Богу, покаяться в грехах и причаститься Тела и Крови Христовой, а увидеть знакомых людей, вспомнить русский язык и немного на нём поговорить.
Вот и всё.
Отец Вениамин молча выслушивает моё недоумение и потом на него тихо так отвечает.
- Отец Дамаскин. Это же не Россия, а Чили. Нельзя от них требовать большего усердия. Слава Богу, что эти люди ещё приходят к нам в храм.
- И раньше так было?
- И раньше так было.
С батюшкой мы заходим в русский дом для престарелых людей. Оказывается, есть и такой у них дом. Он недалеко от церковной ограды. Буквально, в десятках метрах. Дом большой, в несколько этажей. Здесь я знакомлюсь с его хозяйкой-смотрительницей. Родом она из Белоруссии. Но в Чили живёт уже давно. Жизнерадостная женщина бойко рассказывает о жильцах своего попечительства. Их не слишком много. В доме есть пустующие комнаты и квартиры.
По дороге домой, от выхлопного угара, у меня опять разбаливается голова. К удивлению, у отца Вениамина она совсем не болит.
- Привык я уже. А раньше тоже болела, - поясняет мне батюшка. И делится информацией дальше. – Не так давно, японцы предлагали чилийцам взорвать одну гору. И тем открыть доступ к свежему воздуху. Но правительство не согласилось. Денег оно пожалело.
- А сами, чем дышат?
- Кто?
- Правительство ваше.
- Наверное, тем же воздухом, что и мы.
Треть населения Чили проживает в столице. Пятимиллионный город упорно расстраивается всё выше и выше по горным склонам. Больше городу и строиться некуда. Строят чилийцы красиво и крепко. От отца Вениамина узнаю, что Чили занимает первое место в мире по количеству годовых землетрясений. Не Япония и не кто-то ещё из экзотических стран, а, именно, Чили.
Любопытная новость.
Вскоре, я эту новость ощущаю и на себе. Она не заставляет себя долго ждать. Однажды, просыпаюсь посреди ночи в страхе. Просыпаюсь не от страха, а от чего-то иного и весьма неприятного. Интересно, от чего? И тут, вдруг, начинает всё ходить ходуном.
Пренеприятные ощущения!
Не приведи и Господь!
Ещё трижды я служил в храме Сантьяго Божественную Литургию. Вместе с Боной немного походил по горам и потрогал кактусы своею рукой. Подумал: «не из таких ли гигантов гонят индейцы текилу?». Видел маленьких птичек-колибри. Ездил с матушкой в супермаркет за вчерашним хлебом. Для меня было удивительным, что вчерашний хлеб супермаркеты в Чили не продают, а утром просто выбрасывают на помойку. И выбрасывают не только вчерашний хлеб, но и другие «старые» продукты питания.
У матушки Иулиании с одним супермаркетом устная договорённость.
И когда мы к ним приезжаем, хлеб у них уже собран рабочими в огромные целлофановые мешки. Его матушка раздаёт бедным индейцам. А остатками кормит своих коров и свиней. Индейцы собираются ради милостыни на городском мосту. Там же, стоит и карабинер. Для порядка стоит. Просто стоит и улыбается. Страж порядка ни во что не вмешивается. Ни чета нашим милиционерам. Рядом с карабинером припаркован и его служебный мотоцикл. Мотоцикл совсем ещё новенький. Люди подходят к открытой машине. Долго и лениво копаются в хлебных мешках. Видно, что не слишком-то они и голодные. Живут индейцы внизу. Прямо рядом с этим мостом. На берегу горного ручья рассыпаны их утлые хижины. Раньше игуменья привозила им и колбасу. Но власти возить колбасу ей строго-настрого запретили.
Не то, мол, индейцы разленятся и совсем перестанут работать.
Побывал я и на берегу Тихого океана. Мощная водная стихия шумела и бурлила у моих ног. Она волновала и тревожила душу. В ясный и погожий день океан почему-то сильно штормило. Я стоял на высокой бетонной набережной небольшого курортного городка и смотрел на безкрайние водные просторы. Я смотрел на могучий Тихий океан. А в это время зеленоватые волны упорно пытались меня ухватить за ноги и утащить подальше от берега. Океанская мощь восхищала. Она заставляла себя уважать. Сердце защемило, когда я подумал, что где-то там, на том берегу, находится и моя Родина – Дальний Восток. А с этого места - Дальний Запад. И не иначе. И тоже не очень-то близкий. Нас разделяют многие тысячи и тысячи километров. Вот, так-то, братцы, мои дорогие. Занесло же меня на край белого света.
Душа ноет.
Прямо спасу нет.
И домой очень хочется.
В один из дней, матушка Иулиания случайно обронила фразу о возможности встречи с генералом Пиночетом. И мне бы хотелось встретиться. Со слов матушки, выходы на этого знаменитого человека у неё имелись надёжные. «Почему бы и ни встретиться, и не поговорить с известным всему миру генералом» - подумалось мне. Игуменью я благословил.
И матушка Иулиания начала хлопотать.
Но откуда-то узнал об этом отец Вениамин и так некстати, вмешался.
- Отец Дамаскин, - начал он тему просяще. - Не надо встречаться с генералом Пиночетом. Вы уедете, а нам ещё здесь жить. Прошу вас, не надо встречаться с генералом Пиночетом.
На генерала Пиночета накатывался очередной жидовский накат. И все их СМИ пестрели о том заголовками. Пестрели в газетах на телевидении. Отец Вениамин опасался, как бы ему и самому не попасть на страницы печати и в иные жидовские СМИ. Не попасть, с моей помощью, разумеется. Я немного подумал, подумал. И послушался старого и больного человека. Махнул рукой на свою затею. То есть, отказался от встречи с генералом Пиночетом.
О чём, до сих пор, сожалею.
В Сантьяго имеется русское кладбище. Оно единственное русское кладбище во всей Южной Америке. С архимандритом Вениамином и инокиней Иоанной (Гриненко) мы отслужили на русском кладбище панихиду. Панихиду служили у могилы архиепископа Леонтия (Филиппович) Чилийского. Кладбище мне запомнилось своей аккуратной часовенкой. И ещё чистотой, и порядком. За чистотой и порядком здесь следит, специально нанятый на такую работу, индеец. Рядом с кладбищем он и живёт. Помимо предоставления казённого жилья, православный приход платит ему ещё и какие-то деньги.
Пробыл я в Чили всего двадцать дней. И уезжал из страны уже не через Мендоский перевал, а по другому пути. Мендоский перевал, из-за постоянных снежных заносов, дорожники надолго закрыли. Пришлось спуститься на семьсот километров южнее. И только затем уже пересечь чилийскую границу.
Капризы зимы везде одинаковые.
Понравилось мне в Чили и сантьягское метро. На метро мы доехали с отцом Вениамином до автовокзала. Батюшка меня провожал в Бразилию. Сантьягское метро малошумное и очень красивое. Сказать нечего. И станционная отделка прекрасная, и пассажирские вагоны все новые. Правда, московскому метрополитену оно, всё же, проигрывает.
Нет того старинного духа и особого московского колорита.
Тепло и сердечно, попрощавшись с батюшкой Вениамином [380], я сел на своё место в автобусе и вскоре мы тронулись в путь.
К югу страны автобус спустился ночью. Ехали всю долгую ночь. А рано утром пересекли границу и очутились на юге Аргентины. Очутились в самой настоящей зиме. Снег лежит не только на горном перевале, но и местами, на широкой аргентинской равнине – пампасах.
Здесь это место ещё называется – Патагония.
Видны многочисленные загоны для скота. А чуть дальше показались нефтяные промыслы. Нефтяные промыслы работают. Качают нефть. Дорога узкая и полупустынная. Машины почти не встречаются. Отдельные дорожные участки в снегу. Автобус едет медленно. Едет прямо по целинному снегу. В голове невольно закрадывается навязчивая мысль: «а, доедем ли?».
Впереди ещё больше трёх тысяч километров пути. Автобус еле тащится по бедной, но, от чего-то, очень гордой Аргентине. А мысли мои далеко. Они то в Чили, то в Бразилии, то уже дома – в России. В Чили прекрасный храм и есть все условия для епархиального архиерейства. Почему же туда не назначают епископа? Вот, ведь, какой интересный вопрос. Что может сделать один старенький и больной отец Вениамин (Вознюк)? Православные люди в Южной Америке есть и их не так мало. Но им должен открыть Церковные врата архиерей. Ему это значительно легче и проще, чем даже необычному батюшке. Похоже, что до спасения простых людей в РПЦЗ (В) никому нет никакого дела.
Все заняты своими мелочными делами. Церковные люди заняты междоусобной войной или выяснением личностных отношений.
Всё выясняют; кто же умнее и кто же правее.
Епископа Лос-Анжелоского и Южно-Американского [381] в Чили не любят. Это мне дали сразу понять. Да он и посетил её один только раз. И кажется, сразу же начудачил. Одного раза хватило, чтобы со всеми рассориться. Да и разве из штатовского Лос-Анжелоса в Чили управишься? Вот и получается, что епископ есть, что его нет. Больше нет, чем есть.
Тоже самое - с Бразилией и Уругваем. Храмы стоят закрытые и людей просто некому собирать. Не говоря уже о несчастной России. Кому-то думается, что в России проще управлять из-за границы. Видит Бог, как они глубоко ошибаются!
И если бы только в одних этих думах…
Пока я думал и размышлял, наш автобус прибыл в маленький аргентинский городок. Если бы не плоские крыши и не темноватые человеческие лица, то этот маленький, заброшенный в степи (пампасах) городок, можно принять и за провинциальный российский районный центр. Только не к югу от Москвы, а, где-то, подальше к северу. Нищета здесь, примерно, такая же. Люди плохо одеты. Многие дома неказистые и пооблупленные. Машины все старые и полуржавые. Зачем мы сюда заявились? Автобус останавливается и один из наших водителей о чём-то спрашивает местного человека. Так и есть. Заблудились. Абориген во весь рот улыбается. И как с пулемёта, что-то «строчит» по-испански. А затем довольно машет в сторону конца автобуса рукой. Что там, сзади-то? А, вот оно, что. Выясняется, что мы совсем не туда заехали.
Теперь надо возвращаться километров двести назад.
Если будем так ездить. То взад, то вперёд – у автобуса и солярки не хватит. Народ в автобусе весь городской и к экстремальным неожиданностям неприспособленный. Как «старому» и опытному северному человеку, мне это видно издалека.
Пожалуй, не ближе, чем за нашу версту.
Даже и коломенскую.
Пока мы находились в городке и выясняли правильное направление, дорогу уже успели расчистить от снега. Но лучше ехать не стало. Пошёл крупный снег. Оконные «дворники» с ним не справляются. Снег валит сплошной белой пеленой. Водитель сбрасывает скорость до минимума. Слава Богу! Наконец-то, выбираемся на ясный и открытый простор. Время первого завтрака. Стюарды разносят по салону горячий кофе и сдобные булочки с маслом. А после еды, включают видеомагнитофон. На экране, всё тот же - неутомимый Брюс Ли [382]. У нас о его фильмах давным-давно позабыли.
А здесь они снова на пике популярности.
Кино, хотя и отвлекает, но я смотрю на пампасы и продолжаю свои церковные размышления.
Мысли всё время крутятся вокруг нашего неустройства. Всё ж таки, хочется более чёткой и более выверенной управленческой церковной структуры. Налицо все предпосылки застоя и начала медленного умирания РПЦЗ (В). Так думаю я. И так же думает епископ Виктор. Кто ещё? И дай Бог, чтобы мы ошибались! Отец Вениамин Жуков мыслит совсем по-другому. По мёртвому. И церковного двоемыслия он не потерпит. Не тот характер и не те амбиции, чтобы смиренно терпеть. Да и мы отцу Вениамину – не самый лучший подарок. Один западный и весьма уважаемый в русской Церкви человек, убеждал меня в его промасонстве. Долго убеждал. Убедительно. Я с ним всё спорил и не соглашался.
Так он меня и не убедил.
- Батюшка Дамаскин, - говорил мне этот православный христианин. – Вы человек не западный и совсем не знаете наших порядков. Поверьте, на Западе, не будучи масоном, человек, просто, не сможет занимать такой высокой должности, какую занимал во Франции отец Вениамин Жуков. Это исключено!
И дальше он приводил пример из своей личной жизни, когда и ему предлагали стать масоном. Предлагали не просто так, походя, а обещая быструю и блистательную карьеру. А заодно и материальное благополучие, если не благоденствие. Православный христианин отказался от масонства. И как следствие, остался на низкой общественной ступени.
Я приводил доводы в защиту секретаря Архиерейского Синода. Говорил о больших заслугах отца Вениамина. Имея ввиду - церковное становление РПЦЗ (В) и его борьбу с раскольниками. Прежде всего, с РИПЦей. Мой оппонент спорил.
Спорил и я.
Так мы и остались, каждый при своём мнении.
В Церкви далеко не всё зависит от человека. Пусть и могущественного. Это так. Над всеми нами Господь Бог наш. И только Он – Глава Церкви. Однако на земле и мы, что-то значим. И через нас, окаянных, Господь показывает и проявляет Свой Промысел.
Владыку Виктора мне до боли и по-человечески, жалко. Жалко так, что даже, несмотря, на все его ошибки и старческие причуды, очень хочется его поддержать и хоть чем-то помочь. По сути, мы с ним только вдвоём. Остальные священники епископа или не понимают, или скрытно, а то и откровенно над ним издеваются. А понять и помочь некому. Если я его покину, он останется один на один и с отцом Вениамином, и с его явными и тайными жидами-поджидками.
И тогда он проиграет.
Правда и вместе со мной, победу ему никто не гарантирует. Но вдвоём, всё-таки, легче, да и больше шансов на успех. Объединяет нас многое. И главное - крепкая к России любовь. Не загранично-фальшивая, а самая, что ни на есть, настоящая.
Русская.
Остальное всё, не столь важно.
Пока я думал и размышлял, в автобусе что-то сломалось. И теперь мы опять с меньшей скоростью движемся в сторону Буэнос-Айреса. Русский шофёр вылез бы из автобуса и сразу бы всё исправил. Эти же, нет. Только, знай, себе рулят. А чтобы устранить поломку, они и пальцем не пошевельнут. Зачем шевелить? Когда в фирме есть специальные ремонтные бригады.
В переполненном автобусе становится шумно. Это молодёжь по радио следит за футбольным матчем. Болеют. И тут футбол. Везде футбол. Куда ни кинь и куда, ни глянь. Женщины и футбол. Мужчины и футбол. Политики и футбол. Дети и футбол. И так далее, и тому подобное. Можно все профессии и возрасты перечислить вперемешку с футболом. И не ошибёшься. Для Бога места у них почти не осталось. Разве, что на автомобильных дорогах. Я забыл упомянуть, прошу за это прощения. Всё ж таки, существенный теологический фактор. По обочинам трассы и на всём её протяжении, слева, и справа, построены частые поминальные вертепы с горящими и уже потухшими свечками. В Южной Америке так принято у католиков.
Как наши кресты по погибшим в дороге.
И куда мы торопимся? То есть, всё человечество. Явно, что не в ту сторону. В памяти всплывают святые и давно проповеданные слова из книги Екклезиаста. О суете сует. Прислушаться бы к этим словам. Да научиться жить по-Божески, а не по-своему.
До столицы Аргентины мы не доезжаем ровно шестьдесят километров. Я точно сориентировался по дорожному указателю. Здесь, прямо у придорожного ресторана нас уже ожидает фирменный автобус. Остаётся только перекусить, да переместить багаж и ручную кладь. Пассажиры занимаются едой, а рабочие - нашим багажом и ручной кладью. На моё облачение и здесь обращают внимание. Люди окружают меня плотным кольцом и начинают расспрашивать. Общению помогает молодой немец-попутчик. Молодому человеку я пытаюсь объяснять по-немецки [383]. А он уже переводит дальше на испанский или английский язык. Ничего. Получается довольно интересная и познавательная беседа.
Все стороны остаются довольными.
Наконец, перекладка багажа и ручной клади заканчивается. Стюарды любезно приглашают нас в долгожданный путь. Мы быстро рассаживаемся на свои места. Новый автобус плавно трогается и сходу набирает крейсерскую скорость. От нечего делать, я продолжаю про себя потихоньку молиться и наблюдать в окно. Одно другому не мешает. Пейзаж у дороги ещё долго не меняется. Снега здесь давно уже нет и в помине. После пампасов идут ухоженные мандариновые рощи, пастбища для крупнорогатого скота и одинокие фермы. У дорожных обочин краснеются мандариновые горки. Но ни продавцов, ни покупателей рядом не видно. Вёрст через триста начинаются сплошные болота.
В автобусе едут две женщины. Одна из них уже в годах, а другая намного моложе. Скорее всего, мать и дочь. Если бы не эта дальняя сторона, подумал бы, что - русские люди. От наших деревенских женщин и не отличишь. И лица такие же, и одёжка.
На бразильской границе выясняется, что так оно и есть. Это две русские женщины-староверки. Я подхожу к ним и спрашиваю.
- Почему же вы не подошли ко мне? Вы же видите, что с вами едет русский священник.
Женщины виновато потупляют взор. И долго молчат. Потом старшая неуверенно отвечает.
- Видим. Простите нас. Наших священников всех поубивали. Теперь мы уже давно живём без священников.
Хотелось сказать: «но я-то здесь при чём?». Но спрашиваю я у них не о том.
- Вы в Чили живёте?
- Да.
- И давно?
- Наши прадеды выехали из России ещё при царе. А в Чили мы осели с 1932 года. Живём рядом с пустыней. Очень жарко там. Мы думали, думали и решили перебраться в Бразилию. Хотим купить там землю и поселиться на ней. Старшие благословили нас в эту дорогу. Хотим присмотреть кусочек хорошей землицы. Вот и едем с дочкой туда.
Пожилая женщина умолкла. А у меня в голове возникло много вопросов. Но стюарды не дали их задать. Проверка документов уже закончилась. И надо было двигаться дальше. По дороге к автобусу я, всё же, успел полюбопытствовать.
- А вернуться в Россию, не возникало желания?
- Возникало. Только нам страшновато. Да и привыкли мы здесь.
Да, расселились русские люди по всему белому свету. Кто где. И теперь уже в Россию не возвратятся. Староверы те, хоть, язык и традиции сохранили. А остальные почти полностью, а то и полностью, ассимилировались. В Сан-Пауло и Монтевидео довелось пообщаться и с такими людьми. Есть они и в других южноамериканских странах и городах.
Староверки со мной попрощались и сошли они в Флорианополисе. Сошли прямо в ливень. Дождь лил, как из ведра. Я проводил их глазами. И вскоре потерял из вида. Помоги им Христос! В Чили им слишком жарко. А в Бразилии, наверное, холодней.
Чудны дела твои, Господи!
Павел Владимирович Бибиков встретил меня на автовокзале в Сан-Пауло. Встрече мы сильно обрадовались. Так обрадовались, будто веками не виделись. Очень хороший человек – Павел Владимирович Бибиков. Редкостной веры и души человек. Такие люди теперь встречаются, разве что поштучно. Таких людей - раз, два и обчёлся. Лет-то ему не так уже мало. А держится молодцом. По дороге Павел Владимирович мне всё время о чём-то рассказывает. Я его внимательно слушаю, а сам с интересом смотрю на бездомные толпы людей. На улице поздняя ночь. Нищих и бездомных ночью особенно много. Бедные люди везде. Лежат вповалку на придорожных скверах и прямо на асфальте. Ютятся в примитивных и не очень палатках. И сотнями, тысячами толпятся под мостами. Что они там делают под мостами?
Бог весть.
По приезду к Бибиковым, я опять сажусь за любимые и знакомые книги. И целыми днями просиживаю в библиотеке. Порой, так увлекаюсь чтением, что не замечаю и времени. А оно идёт медленно. Не торопится. Когда же наступит пора собираться домой? Владимир Павлович Бибиков – сын Павла Владимировича - приглашает съездить в город Сантос, что на самом побережье Атлантического океана. Сантос всего в семидесяти километрах от Санто-Андрэ и Сан-Пауло.
Я с радостью принимаю предложение брата Владимира.
Отправляемся мы туда всем семейством. С высоты горного плато открывается прекрасный вид на часть города и Атлантического океана. Вдалеке виднеются океанские суда. Высятся горы и здания. Сантос – город курортный. Несмотря на зимний месяц, подростки и дети, всё ещё, охотно купаются. Заядлые рыболовы ловят с берега рыбу. А более пожилые люди, неторопливо прохаживаются по открытой набережной. Здесь значительно теплее, чем в Сан-Пауло. По мне так – самое настоящее жаркое лето. Вокруг много зелени, японских ресторанчиков и небольших островов. Джунгли здесь мне кажутся гуще и непроходимей. Один из островов плотно застроен красивыми высотными домами.
И всё же, Атлантический океан не чета Тихому. Тихий океан, куда интересней и привлекательней. Отсюда же России не видать. За океаном - Африка и только потом уже наша Россия. В Атлантическом океане и вода совсем другого цвета.
Нет такой притягательной изумрудности в водной зелени и особенной её чистоты.
В Сантосе я освящаю квартиру родителям супруги Владимира Бибикова. Квартира у них большая и светлая, с видом прямо на океан. Виктор и Зинаида [384] – люди моего возраста. Переехали они сюда из нашего Санкт-Петербурга. Зинаида, вроде бы, прижилась на новом месте. А вот Виктор не очень прижился. Не терпится ему побывать в родном Санкт-Петербурге и хоть с недельку пожить по-человечески, а не в этой бразильской «духовке». Нормальной жизни препятствует ещё и языковая изоляция. Португальский язык учить русскому человеку не хочется. А прожить без него в Бразилии сложно.
Поздно вечером мы возвращаемся в Санто-Андрэ.
Родненькие мои!
Сколько книг не читай и сколько их не перечитывай, а Родину они не заменяют.
Не от того ли я, всё чаще и чаще, начинаю подумывать о досрочном возвращению в Россию. Не исчезает эта мысль и после знакомства с иереем Константином Бусыгиным – зятем Павла Владимировича Бибикова. Отец Константин находится в юрисдикции РПЦЗ (Л). Поминает митрополита Лавра (Шкурло) и считает его законным Первоиерархом РПЦЗ.
Шести часов беседы мне не хватает на разсеяние его заблуждений. Когда-то, отец Константин и Павел Владимирович, ездили на своей машине к митрополиту Виталию в Канаду. Митрополита Виталия в Мансонвилле они не застали, а епископ Владимир (Целищев) их очень плохо принял. Можно сказать, едва ли не выпроводил вон. С тех пор у отца Константина и осталась неприязнь к нашему епископату. Знает он прекрасно и о «значении» Людмилы Дмитриевны Роснянской.
Сам же отец Константин мне понравился. Видно, что человек он очень порядочный и самостоятельный. Хотя родился и вырос в Бразилии.
За седмицу до окончания визы я не выдерживаю, звоню владыке Виктору и жалуюсь ему на нестерпимую ностальгию.
- Возвращайся домой, - благословляет сходу епископ. – Здесь у нас много скопилось дел. Нечего там попусту чаи гонять и загорать.
Павел Владимирович и его благоверная супруга не хотят меня отпускать раньше срока домой. Просят, чтобы я остался до окончания действия визы. Но я уже не могу. Да и владыка Виктор благословил. В этот же день, с Павлом Владимировичем мы идём в агентство и меняем там авиабилет.
Слава Богу, завтра я лечу домой!
Я прощаюсь со всем семейством Бибиковых. С Ниной Алексеевной, с Владимиром, Германом, Татианой, Наталией, Зинаидой и двумя чудесными девочками - Катенькой и Ниночкой. До аэропорта меня провожают Павел Владимирович Бибиков и его сват из Санкт-Петербурга – Виктор. Уже на контроле вижу, как у Павла Владимировича текут по щекам слёзы. Я лечу в Россию. Лечу на его Родину. На его родную землю, которую он столько лет не видел. В те самые края, где прошло его раннее детство. Где могилы и прах его знаменитых предков. Туда, где всё ещё стоит и шумит могучий русский лес. Павел Владимирович плачет и не скрывает своих слёз. Так плачут только настоящие русские мужчины.
И самому плакать хочется…
Дай Бог ему вернуться на Родину!
По Южной Америке я проехал на автобусе более десяти тысяч километров. Впечатлений осталось много. И разве их втиснешь в какой-то десяток страниц. Послужил здесь Богу и людям. Побывал в четырёх разных странах. Поговорил с местными жителями и русскими иммигрантами. Узнал, как они живут. Как верят в Бога. Не Россия, конечно. Но кому-то и здесь жить можно. Господь не оставляет Своей милостью никого. И каждому человеку на земле Он желает спасения.
Тяжело расставаться с хорошими и добрыми людьми, но легко лететь обратно на Родину. Погода над Атлантикой выдалась ясная. В иллюминатор прекрасно видно океан и большие океанские корабли. Ночью они светятся яркими бортовыми огнями. Прямо, как игрушки на ёлке. Мы летим в Милан. Из Москвы в Сан-Пауло летели через Рим. А теперь в Москву, из Сан-Пауло через Милан. Мне всё равно. Лишь бы, как можно быстрее, добраться домой. Или, хотя бы, до жаркой Африки.
А с Африки я и пешком до России дойду.
Бортовые компьютеры нам показывают, в какой точке мы сейчас находимся. Светлая стрелка на мониторе всё ближе и ближе подходит к африканскому континенту. Потом она ползёт дальше, уже к Средиземному морю. И когда солнечный диск освещает планету, появляется испанское, а затем и французское побережье. С десятикилометровой высоты видны сплошные поселения и города. На мониторе высвечивается надпись - «Марсель». В Марселе теперь служит иеромонах - отец Сергий (Чурбаков). Я посылаю ему свой мысленный поклон. Всё ж таки, приятно ощущать, что наш батюшка находится где-то рядом.
Северная Италия удивляет своей правильной геометрией полей, поместий и поселений. С высоты полёта отчётливо проглядывается аристократическая ухоженность и высокое материальное благополучие этого известного исторического места.
Видны старинные замки, дворцы…
В Милане я пересаживаюсь на самолёт до Москвы. Остаётся уже мало терпеть. Скоро Россия. Единственная страна, с которой мы связываем все свои чаяния и надежды. Пусть она пока и не наша. Это пока. И до поры, и до времени. С Божьей помощью народ наш очнётся, воцерковится. И тогда всё будет по-другому. Тогда всё станет на свои законные места. Будет так, как и должно быть. Не по жидовски. А по Православному. Для того и живём на белом свете.
В Москве я долго не задержусь. Проведаю В. Г. Черкасова - Георгиевского и сразу же поверну свои стопы на Кубань. Владыка Виктор сейчас там один. Одному ему тяжело управляться с приходом. Не зря же он меня поторапливал и благословил вернуться пораньше. В Южной Америке я не терял информационно-церковной нити. Поэтому был в курсе публицистической активизации наших старых оппонентов. Войну они начали. И мы эту войну приняли.
И иначе нельзя.
Уклоняться от боя - смерти подобно. В противном случае, РПЦЗ (В) ожидает скорое слияние с Московской патриархией. Пример РПЦЗ (Л) - тому наглядное подтверждение. Сегодня это понимает один только епископ Виктор (Пивоваров). А все остальные наши епископы, похоже - слепы и глухи. Дай Бог им прозрения и хорошего слуха! И отцу Вениамину Жукову - желаю того же.
Если этого не произойдёт, то церковный раскол неизбежен. И останется тогда секретарь Архиерейского Синода, как та пушкинская старуха из сказочной «Золотой рыбки», у своего старого и разбитого «корыта». А то и «корыта» не останется. Да и с нами, что станется – неизвестно. Лишь бы не оставил нас Господь. А с Господом Богом, за правое дело и смерть не страшна.
Недовольство отцом Вениамином в Церкви зреет и нарастает снежным комом. Монополизировать власть в Храме Божьем нельзя. На то и существуют каноны. Церковь это не социалистическое производство. Где «умный» начальник старается подобрать себе заместителей, чем глупее, тем лучше. Подобрать, с тем расчётом, чтобы умный заместитель не подсидел и не занял его начальственное место.
Церковь сильна Правдой Божьей и Своею Соборностью!
А в РПЦЗ (В) Синод и Собор, это отец Вениамин Жуков. И если бы только он один, а то ведь ещё на пару с госпожою Роснянской.
Вот и получается - стыдоба и позор, да и только.
Стыд и позор тоже можно перетерпеть. Терпения нам не занимать. На то и монахи. Слава Богу, терпим, уж, сколько. А вот, когда Россию и малую часть её православных людей, стараются унизить, хотят подломить под себя её верный Богу епископат, или же поставить для неё епископов из иудеев - тут и по воле, и поневоле задумаешься. И не утерпишь.
Или, всё же и такое надо стерпеть?
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ МОНАШЕСКИЙ КРЕСТ (РАСКОЛЫ И РАЗМЫШЛЕНИЯ)
ГЛАВА ПЕРВАЯ. У истоков Свечного Собора
Мертвые мухи портят и делают зловонною благовонную масть мироварника:
то же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью.
(Книга Екклесиаста или Проповедника. 10:1).
Опять я вернулся на Кубань. Только теперь уже из зимы в лето. Лето на Кубани жаркое. При такой жаре приятно находиться у моря, у прохладной воды или даже в воде, а не в городской и пыльной духоте. О море грех монаху мечтать. Прости, Господи!
Грешен.
Сразу по приезду в Славянск-на-Кубани, я написал две статьи. И как это часто случается, не обошлось без неприятностей. Одна статья вызвала гнев и возмущение владыки Виктора, а другая – очень сильно не понравилась отцу Вениамину Жукову. Владыка Виктор возмутился тем, что, будто бы, я слишком уж мягко упомянул в статье об архиепископе Лазаре (Журбенко).
А отец Вениамин, тот, наоборот, остался недоволен моим жёстким ответом господину Ционскому из Германии. Секретарь Архиерейского Синода далеко и его недовольство меня коснулось постольку поскольку. А вот владыка Виктор рядом. От его унизительного злопамятства никуда не денешься. Целый месяц он на меня дулся и почти совсем не разговаривал.
Всё когда-то в этом мире кончается.
Закончилось и моё подчёркнутое наказание. Время назревало ответственное. И епископ Виктор хорошо понимал, что сейчас, как никогда раньше, нам надо не ссориться, а, во Христе, укрепляться. Поспособствовал архиерейскому пониманию и его окончательный разрыв с отцом Вениамином Жуковым. Случился он после одного телефонного разговора, в котором отец Вениамин позволил себе открыто посмеяться над уже опубликованными творениями правящего Южно-Российского архиерея РПЦЗ (В).
Затем, «соли» и на эту самую же «рану», добавил отец Николай Семёнов из Брюсселя. В этот злополучный день батюшки словно сговорились. Их благие побуждения привели владыку Виктора в неописуемую ярость. Зная прекрасно своего архиерея, я понял, что теперь никакая речь о примирении с отцом Вениамином и его «церковной» политикой уже не может идти. Столь откровенную критику маститых зарубежных священников владыка Виктор принял за издевательство, за величайшее оскорбление. И отец Вениамин, и отец Николай, тут же, попали в разряд не только его самых злостных личных врагов, но и врагов Церкви.
Отец Сергий (Чурбаков) из Марселя вернулся довольный и явно с прожуковским настроением. Владыка же засобирался в далёкую Вятку. Меня он оставил за старшего клирика. А сам отправился с архипастырской поездкой на европейский север России.
Боль и обида владыки меня не сильно затронули. И пока правящий архиерей ездил по обширной епархии, я списался с отцом Вениамином Жуковым и вступил с ним в откровенный пастырско-человеческий разговор. Мы очень быстро нашли с батюшкой общий язык и с помощью интернета, о многом переговорили.
В одном из своих электронных писем, отец Вениамин так разоткровенничался, что поведал мне о планах по смещению митрополита Виталия (Устинова) с первоиераршества РПЦЗ (В) и замене его епископом Антонием (Орловым).
Смещение с первоиераршества и отправку на покой митрополита Виталия отец Вениамин запланировал на ближайший Архиерейский Собор, то есть на ноябрь-декабрь 2005 года. До этого времени оставалось уже рукой подать. Признаюсь, такая новость меня несколько ошеломила. Владыку Антония (Орлова) я знал плохо. Только по телефонным звонкам, от которых у меня осталось двоякое впечатление. Поэтому, когда из поездки вернулся владыка Виктор, я спросил у него, знает ли он о предстоящих планах отца Вениамина и что он может сказать про владыку Антония?
К удивлению оказалось, что мой владыка о планах секретаря Архиерейского Синода впервые слышит. А о владыке Антонии он отозвался негативно.
- Тюха-матюха, - сказал о владыке Антонии епископ Виктор. – Сидит всё время молча на Соборе и корчит из себя святошу или великого аскета. Я от него и слова нормального не слышал. Если он станет Первоиерархом, то ничего хорошего нам ждать не придётся. Будет во всём слушаться Жукова. Не зря же он его пророчит на это место. Наверное, у них уже всё договорено.
- И что же теперь делать?
- Не знаю.
Если архиерей не знает, то, что тогда говорить обо мне. Возникла долгая пауза. Думал и я, думал и владыка Виктор.
- Надо помешать Жукову, - первым нарушил молчание архиерей. – А как ему помешать, я не знаю. Я один. Антоний Молдавский, разве, что в рот ему не заглядывает. С владыкой Анастасием считай, что уже покончено. Епископ Сергий тоже его человек.
- Тогда надо писать письмо епископу Владимиру, - вставил я реплику.
Владыка на секунду задумался.
- И письмо сразу же попадёт на стол Жукову.
- Не попадёт. Владыка Владимир сам метит на место Первоиерарха [385]. И ему будет крайне неприятна кандидатура Антония (Орлова). В этом моменте он вас непременно поддержит.
Епископ Виктор снова задумался.
- И что я ему напишу?
- Напишите, как оно есть.
- Опасная эта затея. Ну, да ладно. Выбора у меня другого нет.
И владыка сел за компьютер. Письмо вскоре было написано, и отправлено адресату. Владыка Виктор встал из-за стола и начал нервно ходить по комнате.
Он очень сильно волновался.
- Если владыка Владимир ответит нам положительно, то я сообщу его ответ Жукову. И своё письмо ему перешлю. Пусть не подумает об архиерейском заговоре или ещё там о чём.
- Этот вопрос тогда надо будет согласовать с владыкой Владимиром. Иначе получится некрасиво.
- Согласую.
Время шло, а электронная почта молчала. Через каждые десять-двадцать минут я её проверял. Но письма от епископа Владимира всё так и не поступало.
- Благословите, владыка, я позвоню ему в Америку. Может он сейчас не за компьютером и ничего не знает о вашем письме.
- Звони.
Я позвонил и сразу же дозвонился. Представившись, испросил благословения и полюбопытствовал о владыкином письме.
- Немного подождите. Я уже заканчиваю на него отвечать. Через пять минут я свой ответ перешлю, - многообещающе послышалось в трубке.
Письмо из Америки пришло ещё раньше.
Как я и предполагал, епископ Владимир был категорически против смещения митрополита Виталия и отправки его на покой. В своём письме он полностью поддерживал епископа Виктора и более того, обещал ему всяческую помощь, если отец Вениамин, вдруг, заупрямится или закоснится. О владыке Антонии в письме не сказано было ни единого [386] слова.
После такого прямого ответа, владыка Виктор воспрял духом и заметно повеселел.
На душе стало легче и мне.
Владыка Владимир не возражал о пересылке писем отцу Вениамину. И вскоре отец Вениамин их получил. Воевать он за свою идею не стал. Поэтому на очередном Архиерейском Соборе речь пошла уже о других церковных моментах [387].
Владыка Виктор вернулся из Канады [388] в крайне подавленном и удручённом состоянии. Я не торопил его с соборными новостями. Дождался, когда он сам начал о них вещать. Первым делом, владыка выказал недовольство епископом Владимиром. Поведав о его двоякой сущности и о витке новой дружбы с отцом Вениамином Жуковым. Со слов владыки Виктора выходило, что секретарь Синода на этом Соборе ещё сильнее упрочил свои позиции, и что он теперь опять остался в полном одиночестве. В ответ на вполне законное замечание епископа Анастасия о нарушении «Положения о РПЦЗ» [389], Собор принял поправку, в которой теперь допускалось Секретарю Синода быть и в священническом сане.
При чём, текст этой поправки предложил не кто иной, как сам же владыка Виктор.
- И зачем вы это сделали? – спросил я его.
- Я боялся, что вслед за Анастасием, сразу же, последует и моя очередь. Поэтому вынужден был «подыграть» отцу Вениамину.
В Соборных документах про владыку Анастасия (Суржик) ничего не было сказано. Но владыка Виктор прояснил мне ситуацию.
- Архиерейские дни Анастасия закончены. Жуков не потерпел его оппозицию. И кулуарно они уже отправили его на покой. Бумажные формальности, это вопрос времени [390]. За владыкой Анастасием - последую я. И я это точно знаю.
После этих слов, мне стало понятно столь удручённое состояние моего правящего архиерея. И судя по всему, он нисколько не преувеличивал. Собор возвёл в архиепископский сан владыку Антония (Орлова) и владыку Сергия (Киндякова). И взял ретроградный курс, без малейшего учёта церковно-российских интересов. При таком курсе, все наши надежды на успешное церковное строительство и воцерковление людей, рушились, как бы, сами собою. И ждать каких-то просветов на этом поприще уже не приходилось. Оставалось только одно – уповать на Господа Бога и просить Его помощи.
Сколько раз я всё размышляю об отдельных личностях в нашей новейшей церковной истории. И всякий раз прихожу к одному и тому же выводу. Милостивый Господь даёт возможность спасения всем. Даже самым слабым и немощным из людей. Митрополит Виталий, выйдя из покоя, вернул к жизни Русскую Поместную Церковь. И Бог весть, не этим ли он и сподобится Царства Небесного? Господь призвал к спасению и владыку Варнаву – самого немощного из всех падших епископов РПЦЗ. Но владыка Варнава (Прокофьев) не смог долго удержаться на должной высоте и вскоре пал. Затем наступил спасительный черёд для владыки Антония (Орлова). Однако и владыка Антоний пошатнулся, и последовал в пропасть за падшим Варнавой. О других епископах и священниках уже умолчу. А их очень и очень много. Время для покаяния ещё не ушло. Но много ли его осталось? Успеете ли покаяться? Разве трудные эти вопросы?
Ответьте на них, спасения ради, себе.
Начало 2006-го года прошло в молитвенных приходских заботах и частых раздумьях. Когда в Церкви нарушается каноническое управление и зреет еретическое умозаключение, всегда находятся люди, желающие их исправить и искоренить. Так было во все времена. И не только при святом Максиме Исповеднике. Нарушение канонического управления в РПЦЗ (В) налицо. Мы хотим его исправить. Но, как? Вот вопрос, который не давал нам покоя. Завтра из России уберут епископа Анастасия. За ним последует епископ Виктор. И с кем мы тогда останемся? С госпожой Роснянской и с отцом Вениамином?
Так, что ли?
Теоретически проблема разрешалась довольно просто. Нам казалось, что, с Божьей помощью, следовало собрать очередной или же внеочередной Архиерейский Собор и на нём решить все вопросы канонического управления. То есть, 1-е. Поставить секретарём Синода одного из епископов. 2-е. Дать право первой подписи Заместителю Первоиерарха. 3-е. В случае упрямства госпожи Роснянской, отправить митрополита Виталия на покой и избрать следующего Первоиерарха РПЦЗ (В), с расширением епископата за счёт российских кандидатов и при условии выполнения первого пункта.
А дальше уже, как Бог даст.
По «Положению о РПЦЗ» Архиерейский Собор мог созвать только Первоиерарх (или же, в крайних случаях: по смерти Первоиерарха и т. д. Заместитель, Местоблюститель). Мы хорошо знали, что владыка Виталий полностью зависим от госпожи Роснянской, поэтому на Божье чудо созыва Архиерейского Собора не надеялись. Не говоря уже о его повестке.
Прости, Господи, за маловерие!
В последнее время, церковное управление РПЦЗ (В) попало в зависимость от капризов Людмилы Дмитриевны Роснянской. Сложилось так, что, тот человек, кого слушается госпожа Роснянская – тот и правит. Несколько лет Людмила Дмитриевна слушалась отца Вениамина Жукова. С каждым годом её послушание ослаблялось. Но его пока хватало для подписания нужных бумаг и видимости канонического управления. Секретарь Архиерейского Синода прекрасно понимал шаткость своего правления, ибо оно основывалось на лояльности к нему такой женщины, как госпожа Роснянская. Как известно, лояльность, да ещё и женская – штука изменчивая. Поэтому-то отец Вениамин и спланировал отправку митрополита Виталия [391] на покой, и замену его епископом Антонием (Орловым). Мыслил он в правильном направлении.
И если бы не наше вмешательство…
Примерно, за месяц до Архиерейского Собора 2005 года, в церковную жизнь ворвалась и ещё одна американская женщина – Ирина Николаевна Виноградова из Алабамы. Её первые телефонные звонки и электронные письма, столь насыщенные восторженным читательским отзывом на архиерейскую публицистику, не могли не привлечь внимание владыки Виктора. Пишущих людей редко хвалят. А тут, восхваления до небес обрушились на него, прямо-таки, обильным и нежданным «потоком».
После Собора звонки и электронные письма участились.
Из-за экономии своего драгоценного времени, владыка Виктор привлёк к общению с Ириной Виноградовой и меня.
Поначалу наше общение носило, всё больше, информационно-познавательный характер. Ирина долго и умело рассказывала о жизни на православных приходах в Америке. Выказывала недовольство тамошней приходской жизнью. Немного позднее, стала много говорить на национально-патриотическую и монархическую темы. Намекала она и на узурпацию церковной власти госпожой Роснянской и отцом Вениамином Жуковым. Одним словом, информировала нас о том же самом, что мы и без неё хорошо знали.
Ирина на месте не сидела.
Окормляться она ездила в далёкую Калифорнию на приход владыки Антония (Орлова). И с его же благословения совершала паломнические путешествия к митрополиту Виталию. Будучи неоднократно в Мансонвилле, Ирина сумела расположить к себе госпожу Роснянскую, а через неё и глубокого старца-митрополита Виталия. Связь с Россией Ирина Николаевна не теряла. Она и поведала епископу Виктору о своих прекрасных отношениях с личным секретарём Первоиерарха. Вот тогда-то у нас и появилась слабая надежда на созыв Архиерейского Собора. Того самого Архиерейского Собора, который бы и решил вопросы восстановления канонического церковного управления в РПЦЗ (В). Напомню, что сама возможность созыва Собора напрямую зависела только от желания Людмилы Дмитриевны Роснянской [392].
Собор созвать можно и даже с его православной повесткой, но как поведёт себя отец Вениамин Жуков, почуяв свою неизбежную отставку? Смирится ли он с ней? Или же в спешном порядке начнёт собирать свою антисоборную коалицию?
Вопросы возникали совсем не праздные. Однако и вопросы, и все наши предсоборные ожидания не имели под собой никакой реальной почвы или основы, так как находилось в области теорий и келейно-гипотетических предположений. Мы понимали, что одному архиерею сложно аргументировано озвучивать, а уж, тем паче, бороться за восстановление канонического церковного управления. При добровольном отказе отца Вениамина от власти, владыку Виктора могли поддержать все епископы [393]. Мне думалось, что так оно и будет. Владыка же Виктор мыслил более скептически.
И как показало время, он оказался прав.
Ближе к весне возникла насущная потребность отправки в Мансонвилльский Свято-Преображенский скит священника для Постовых и Пасхальных служб. Дело в том, что исполнявший там своё послушание - иеромонах из Коми благочиния - Виктор (Парбус) разругался с госпожой Роснянской. Попал, через неё, в немилость к митрополиту Виталию. И как следствие, оказался вне пастырских дел. Владыка Виктор, вместо него предложил отцу Вениамину Жукову мою кандидатуру. И секретарь Синода вначале согласился с ней. Но немного погодя передумал. Он списался со мной и попросил повлиять на владыку Виктора с тем, чтобы вместо меня отправить в Канаду отца Сергия (Чурбакова). Лететь к госпоже Роснянской мне крайне не хотелось, поэтому я охотно пообещал батюшке свою посильную помощь.
Помимо моего нежелания лететь к госпоже Роснянской, у отца Вениамина имелись на руках и свои аргументы по моей замене. Аргументы веские и с ними я был полностью согласен. Один раз канадское посольство в Москве мне уже отказало в визе. И надеяться на то, что канадские дипломаты изменят свое первичное решение, было бы крайне расточительно и опрометчиво.
Я начал хлопотать об отце Сергии (Чурбакове). И что называется: «налетела коса на камень». Владыка Виктор и слышать не хотел об отце Сергии. Для меня отец Вениамин Жуков, всё ещё, оставался уважаемым батюшкой и церковным авторитетом. А для владыки Виктора «полярность» отца Вениамина, раз и навсегда, поменялась на отрицательный знак.
Секретаря Синода владыка считал врагом Церкви. А отца Сергия его тайным послушником. Поэтому наши усилия с отцом Вениамином потерпели полное фиаско.
Как и ожидалось, канадцы и во второй раз не пустили меня в свою страну. Странно! Не правда ли? Никаких оснований для отказа в визе они не имели. И тем не менее, не пустили. Отец Вениамин и до сей поры, оправдывается в своей непричастности к этому визовому отказу. Оправдывает и тех, кто высылал мне нужные бумаги. Разве, кого я виню? Архиепископ Сергий (Киндяков) скончался накануне моего посещения канадского посольства. Именно, от его имени сделали вызов. Царствие ему Небесное! Это потом уже выяснились причины отказа. Не могу ручаться за их достоверность.
Хотя и очень похоже на достоверность.
Если знаешь наперёд ожидаемую неудачу, то горечь её легче переносить. В Славянск-на-Кубани я вернулся в нормальном настроении. Когда же в руки к нам попало Пасхальное послание архиепископа Антония (Орлова), моё настроение подпрыгнуло до необозримых высот. После его прочтения и владыка Виктор, и я поняли, что за океаном появился наш брат-единомышленник. Всё Послание владыки Антония дышало любовью к грядущей православной и царской России.
С благословения своего архиерея, я позвонил владыке Антонию. И с первых минут, ничего не мог ему словесно сказать. Радость меня переполняла. И владыка Антоний, и я понимали друг друга без слов. Между нами установилась прочная духовная связь.
Не знаю, как с владыкой Антонием, а со мной такое происходило впервые.
С этого момента, архиепископ Антоний и епископ Виктор стали действовать сообща. Вскоре к ним присоединился и митрополит Виталий (Устинов) – Первоиерарх РПЦЗ (В). До старца-митрополита, наконец-то, дошло, что в РПЦЗ (В) первоиераршествует совсем и не он, а, всего-навсего, митрофорный протоиерей из предместий Парижа.
Что, в общем-то, не по сану, чести, да и не по уму. И вскоре от Первоиерарха последовали давно назревшие Указы о созыве Синода.
(О них через пару абзацев).
В начале мая была сделана ещё одна попытка отправки иеромонаха Дамаскина (Балабанова) в Канаду. На сей раз, меня уже вызывал сам Первоиерарх. А все остальные документы готовила Ирина Виноградова. К документам ей удалось подшить даже ходатайство и поручительство местного канадского сенатора. Казалось бы, теперь, уж, точно посольство выдаст въездную канадскую визу. Коль, сам сенатор ручается и хлопочет. Ан, нет. В визе снова мне отказали.
Узнав об этом, канадский сенатор до глубины души возмутился и сразу же, дал команду своим людям выяснить причину посольского отказа. Вот тут и выяснилось, что в визе так упорно отказывают мне неспроста, а со злым умыслом. Уж, не ведаю по чьёму там благословению, однако, монреальская паства (в основном, крещёные евреи) РПЦЗ (В) воспротивилась появлению иеромонаха Дамаскина в Канаде. И через своего высокопоставленного посольского знакомого (заведующим всем канадским визовым процессом в Москве) легко «тормозила» все попытки моего продвижения в канадскую сторону.
Первый же Указ митрополита Виталия о созыве Архиерейского Синода вызвал бурную протестную реакцию, как самого отца Вениамина Жукова, так и его сторонников.
Сам Указ выглядел так:
Членам Архиерейского Синода РПЦЗ
Архиепископу Антонию Лос-Анжелосскому и Южно-Американскому
Епископу Варфоломею Эдмонтонскому и Западно-Канадскому
Епископу Владимиру Сан-Францисскому и Западно-Американскому
Митрофорному Протоиерею Вениамину Жукову
Сим извещаю вас, что считаю необходимым созвать Архиерейский Синод РПЦЗ 15/28 мая, 2006 года в Свято-Преображенском скиту в 4 РМ для обсуждения следующих вопросов:
1. По поводу временного назначения архиепископа Антония на Монреальскую и Восточно-Канадскую Епархию.
2. Рассмотрение жалоб на Архиепископа Антония и Епископа Владимира.
3. Рассмотрение деятельности Секретаря Синода.
4. Рассмотрение кандидатов на епископские хиротонии.
5. Отчёт фонда Митрополита Виталия у П.Н. Будзиловича.
Председатель Архиерейского Синода РПЦЗ
Митрополит Виталий.
Отец Вениамин Жуков (за подписями епископа Владимира, епископа Варфоломея и своей) ответил Первоиерарху категорическим отказом от явки на Синод. И тем самым, фактически объявил войну Церкви. За что? Да, за свою узурпированную церковную власть.
Только и всего.
Из повестки дня Синода отец Вениамин прекрасно понял, что явится он на Синод ещё могущественным секретарём, а вот покинет его уже просто митрофорным протоиереем. Поэтому отец Вениамин начал активно собирать подписи священников и монашествующих в свою защиту. И повёл себя крайне агрессивно и, неожиданно для меня, неумело и неумно.
Родненькие мои!
Я не стану вам дословно пересказывать всю предсоборную и соборную историю Свечного Собора. В этом нет особого смысла. Так как, эту историю можно легко прочитать на Синодальном сайте Российской Православной Церкви, вот по этому электронному адресу: http://www.ispovednik.com/istoriya-rospc .
Поведаю вам о другом.
В Указе митрополита Виталия стоит вопрос о рассмотрении жалоб на архиепископа Антония (Орлова) и епископа Владимира (Целищева). Эти жалобы поступили в Синод от групп верующих людей из разных мест: на владыку Антония от монреальского прихода, а на владыку Владимира от алабамских прихожан во главе с Ириной Виноградовой.
Монреальцы обвиняли владыку Антония (Орлова) в превышении своих архипастырских полномочий в Монреальской и Восточно-Канадской епархии, связанных, по их мнению, ещё и с неправедным заступничеством Ирины Виноградовой. Дело в том, что монреальским прихожанам не терпелось убрать эту женщину подальше от госпожи Роснянской и митрополита Виталия, и как можно быстрее, самим занять освободившееся место. За близость к митрополиту разгорелся самый настоящий скандал. Монреальцы надеялись на поддержку заместителя Первоиерарха. Но владыка Антоний обманул их надежды. Взял, да и поддержал сторону Ирины. Чем и вызвал сильнейший гнев и негодование монреальцев.
С владыкой Владимиром выходило гораздо сложнее. На него жаловалась семья Ирины. Алабамцы давно знали этого епископа. До владыки Антония, у него они и окормлялись. Этот епископ часто гостил в курортной Алабаме. С удовольствием пользовался жертвенной материальной и духовной любовью семьи. И как это, не столь и редко, случается, однажды, оказался за порогом милости и архипастырского почитания. Ирина, со присными, обвинила архиерея во многих тяжких грехах, вплоть до излишеств в употреблении алкогольных напитков, сребролюбия и содомии.
Жалобу монреальцев на владыку Антония я в руках не держал. И подробнее о ней рассказывать трудно. А вот с жалобой Ирины Николаевны Виноградовой, её родных и близких, ознакомился хорошо. Для ознакомления и проверки, она прислала мне эту бумагу по электронной почте в Славянск-на-Кубани. С виду жалоба выглядела довольно объёмной. Она едва уместилась на полутора десятках машинописных страниц. Однако кроме характерных женских эмоций, ничего более конкретного и уж, тем паче, обвинительного, не содержала. Документ выглядел, скорее, декларацией о намерениях, чем чем-то ещё. Для разбирательства на Синоде документ не годился. О чём я и поспешил уведомить госпожу Виноградову.
Отзыв мой женщине не понравился. Ирина желала не простого разбирательства жалобы на Синоде, а суда над епископом Владимиром. После моего отрицательного ответа, вскоре она позвонила и справилась о церковных канонах.
Ирина Николаевна меня внимательно выслушала и задала один единственный вопрос.
- А нарушение тайны исповеди может считаться достаточным основанием для разбирательства на Синоде и суда над епископом?
- Да, если нарушение доказательно, - ответил я кратко.
- У меня есть такие доказательства.
Я развёл в стороны руки и повесил трубку. «Если есть такие доказательства, то, почему же тогда они не попали в жалобный текст?» - вопросительно подумалось мне. Епископ Церкви канонами защищён, как никто, из людей. Каноны выстаивают целую систему защиты епископа. И её не так просто обойти или преодолеть. Владыка Владимир это знал не хуже меня. И всё же, поставил свою подпись под отказом прибытия на Синод. Следовательно, за ним водился такой грех, который не позволял чувствовать себя на Синоде вполне защищённо. Иначе, как объяснить его подпись под отказом? Или подпись он поставил, предчувствуя своё неизбежное поражение в предстоящей борьбе за церковное первенство?
Поди, теперь ответь на все эти вопросы.
Со смертью архиепископа Сергия (Киндякова) в Архиерейском Синоде РПЦЗ (В) осталось одно вакантное место. По «Положению о РПЦЗ» его мог временно занять любой правящий архиерей. Одним из последующих Указов Первоиерарха, это место и занял епископ Виктор (Пивоваров). Занял по праву. На протяжении нескольких лет членами Синода являлись исключительно архиереи Зарубежья. Сегодня нас упрекают в дискриминационных жалобах. Упрекают в, якобы, надуманной собственной второсортице. И негодуют по поводу, будто бы, искусственного разделения Церкви на «западников» и «россиян».
Но позвольте, разве мы в этом виноваты?
Кто придумал унизительное шефство, а по существу, главенство зарубежных викарных епископов над российскими правящими архиереями? Кто проводил предательскую церковную политику, полностью игнорируя мнение верующих российских людей и вскоре приведшую к объединению с безбожной Московской патриархией? Кто подбирал и ставил в РПЦЗ (В) архиереев? И почему сложилось таким образом, что никто из российских архиереев так и не стал членом Синода РПЦЗ (В)? Разве это справедливо, когда правящий архиерей Южно-Российской епархии, где священников и приходов оказалось больше, чем во всех остальных епархиях вместе взятых, так и не сподобился членства в Синоде РПЦЗ (В)?
Как такое ещё прикажете понимать?
Нас упрекают ещё и за нашу любовь к своей земле и Родине. Удивительное дело! Упрекатели договорились даже до того, что, будто бы, Господь проповедовал нам любить не родную землю, территории или государства, а одних лишь только людей. Ложь! Без родной земли у человека не может быть ни Национальности, ни Отечества. Или мы уже не русские и безродные? С какой это стати? Наше Православное Отечество именовалось Домом Пресвятой Богородицы. Сама Пречистая Дева покрыла Своим чудотворным покровом пределы Святой Руси. И до тех пор, пока хотя бы и один верный Её Сыну будет оставаться в этих пределах, до тех пор и будет над нами Её чудотворный покров.
Разве не так?
Секретарь Архиерейского Синода, все эти дни, не сидел, сложа руки. Отец Вениамин знал самое слабое место в нашей «цепочке». Искать ему это место не имело нужды. С его подачи, вскоре началось очень сильное давление на Людмилу Дмитриевну Роснянскую. Ей стали звонить все её бывшие подруги и в один голос слёзно упрашивать переменить своё мнение об отце Вениамине Жукове. В ход пускалось всё и не в последнюю очередь, конечно же, старые и испытанные приёмы - лесть, приятные прошлые воспоминания о совместно проведённом времени и всяческие восхваления этой женщины.
Позднее, к телефонным переговорам добавились ещё и личные посещения госпожи Роснянской в резиденции Первоиерарха РПЦЗ (В). Там уже последовали уговоры с глазу на глаз. Посыпались дружеские советы, как можно скорее, избавиться от ненавистной всем в Америке и Канаде госпожи Виноградовой. И не просто советы, а целые «душевные» пожелания, к тому же, густо «сдобренные» откровенной ненавистью и женскими пересудами вперемешку с клеветой.
Как и следовало ожидать, Людмила Дмитриевна такого жёсткого натиска не выдержала и начала, постепенно, сдавать свои позиции противной стороне. Что не могло не сказаться на её отношении к Ирине Николаевне. В срочном порядке, Ирина затребовала нашей помощи. Архиепископ Антоний помощь ей оказать не мог, так как предпочёл заботам церковным дела свои школьные. Оставалось только уповать на срочный приезд в Канаду владыки Виктора. Ему теперь, как новому члену Синода, так и так, надо было туда вылетать. О сём я и поведал своему правящему архиерею.
- Никуда я не поеду, - ошарашил меня сразу ответом владыка Виктор. – Что ты меня гонишь в Канаду. Пусть туда владыка Антоний едет. Ему ближе и проще.
- Вы же знаете, что владыка Антоний сейчас занят школой [394]. И он не сможет срочно приехать к Ирине. Я тоже не могу. Канадское посольство не пустит. Кому же тогда ехать, если не вам?
Владыка серьёзно задумался. Худой и старенький такой. Куда же ему лететь, в такую-то даль. О, Господи! Сердце у меня защемило от жалости. Но выбора иного не оставалось. Наступил тот самый момент, когда промедление – смерти подобно.
- Ладно, поеду, - в сердцах бросил епископ. – Готовься и ты. Если сенатор надавит [395] сильней на посольство, должны визу дать и тебе. Не пойдут они на конфликт и публичное оглашение.
- Владыка, на всякий случай, держать ли мне архимандрита Стефана (Бабаева) [396] в курсе наших Мансонвилльских дел?
Епископ Виктор в раздумии почесал пальцем бороду и затем кратко ответил.
- Держи. Но не особо с ним откровенничай.
После неожиданного прилёта владыки Виктора в Канаду, наши церковно-идейные противники растерялись и на какое-то время затаились. Из ежесуточных телефонных переговоров мне было хорошо известно о положении дел в Мансонвилле. Не всей, но самой важной информацией я охотно делился с архимандритом Стефаном. В случае крайней необходимости, нам предстояло лететь с ним на помощь нашим владыкам. Хотя, лететь это, пожалуй, громко сказано.
Правильнее сказать - должны были сделать такую попытку.
Как и отец Вениамин Жуков, владыка Виктор (Пивоваров) не торопился с епископской хиротонией архимандрита Стефана (Бабаева). Свою «неторопливость» он объяснял тем, что отец Стефан, всё ещё, не отрицает благодатности Московской патриархии. Не держит своего пастырского слова. И что он уж слишком прочно связан дружбой с одной из своих приближённых монахинь. Признаюсь, мне стоило большого труда переубедить владыку Виктора с тем, чтобы он поменял акривию [397] на икономию [398].
Сам же я лично не был знаком с батюшкой из российского Севера.
После отказа епископа Владимира и отца Вениамина Жукова прибыть на Синод [399], Архиерейский Синод состоялся и без их участия. Владыка Антоний прилетел в Мансонвилль вслед за епископом Виктором. И троих архиереев, во главе с Первоиерархом, было вполне достаточно для проведения Синода.
Согласно каноническим правилам, последовал Указ Первоиерарха о созыве следующего Синода. И с тем же самым успехом.
На втором Архиерейском Синоде, помимо Указов епископу Владимиру (Целищеву) и митрофорному протоиерею Вениамину Жукову, был принят и вот этот Указ:
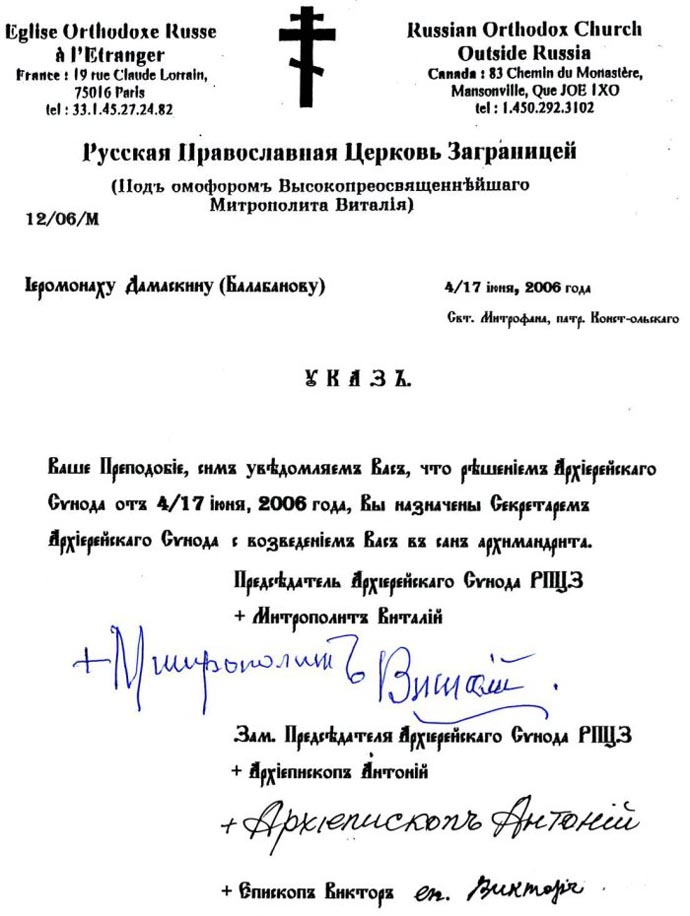
Я привёл этот документ специально, потому что о нём мало кто помнит и вы его не найдёте на электронных анналах «Истории РосПЦ».
На этом же Архиерейском Синоде было принято «Оповещение Синода» (не для публикации), разосланное всем архиереям РПЦЗ (В) о созыве Архиерейского Собора в день святых Царственных Мучеников, то есть 17 июля 2006 года. «Оповещение» подписали: митрополит Виталий, архиепископ Антоний и епископ Виктор. В «Оповещении», в кратком изложении, определялось положение дел в Церкви [400] и предлагалось архиереям высказать и свои мнения. После «Оповещения Синода» Первоиерарх издал Указ о созыве Архиерейского Собора с насущными соборными вопросами.
Вскоре, с приглашением на Архиерейский Собор, последовали вызовы от Первоиерарха пишущему эти строки и архимандриту Стефану (Бабаеву). Уповая на милость Божью, я и приехал в Москву. Приехал в четвёртый раз обивать пороги канадского посольства.
На Кубани стояло жаркое лето. И в Москве оно оказалось не менее сухим и жарким. Улицы дышали раскалённым асфальтом. В воздухе стоял стойкий запах нефтяных смол и выхлопной гари. Бездомные собаки и те, не выдержали такой духоты, и попрятались в спасительную тень кустарников и низких деревьев. А сами столичные жители появлялись в парках и на пешеходных дорожках ближе к вечеру и в утренние часы.
Не все смогли выехать из душного города к морю, на природу или, куда-то подальше ещё.
С архимандритом Стефаном мы поселились на казённой квартире жены известного российского писателя и публициста М. В. Назарова, и немедленно подали документы в посольство к оформлению въездных виз. Долго ожидать не пришлось. На собеседование нас вызвали сразу обоих. Вопросы посольским офицером задавались одному лишь архимандриту Стефану.
На меня офицер не обратил никакого внимания.
К немалому удивлению, вместе с отцом Стефаном, выдали визу и мне. Это после трёх-то отказов за неполных пять месяцев! Слава тебе, Господи! Я со скепсисом заглянул в паспорт и удивился ещё больше. В отличие от краткосрочной визы архимандрита Стефана, в моём документе красовалась полугодовая виза. Такой «милости» я не просил. Она объяснялась боязнью посольских офицеров разоблачения своих махинаций. И не только в отношении меня одного.
В московском туристическом агентстве мы купили авиабилеты и сообщили в Канаду дату своего прилёта. Я летел на Архиерейский Собор в качестве секретаря Синода, а архимандрит Стефан (Бабаев), как возможный кандидат на епископскую хиротонию. И конечно же, мы не знали о ходе предстоящих событий в Мансонвилльском скиту. Что и подтверждали наши тощие дорожные сумки. В них не имелось облачений. Первоиерарх вызвал, мы и летели к нему по послушанию.
Родненькие мои!
Дело прошлое. И теперь уже многое проанализировано. И всё же, главное так и не сказано. Пишущие люди объяснили причину конфликта установлением канонического церковного управления в РПЦЗ (В). То есть, всю нашу борьбу свели к отцу Вениамину и госпоже Роснянской. И во многом, они правы. Только непримиримость сторон этим утверждением не ограничивается. В конце концов, мы же терпели отца Вениамина и госпожу Роснянскую столько времени.
И особых проблем при этом не возникало.
Для более широкого понимания конфликта, не лишне осознать одну очень важную вещь. Недовольство российских православных людей складывалось и преумножалось годами. Оно основывалось не на личностях, а на той церковной политике, которую проводила РПЦЗ, а после её сближения с Московской патриархией и отец Вениамин Жуков со своими зарубежными единомышленниками. Их политика «удержания», сверхосторожности и приспособленческой незаметности, политика толерантности и всетерпимости, когда любое здравое церковное возрастание и начинание всячески приглушалось и осуждалось, приводила к постепенному истощению Церкви и превращению Её, по слову Господа, в соль обуявшую [401]. Православная Церковь – Церковь воинствующая. А отец Вениамин хотел превратить Её в некую загнивающую и тыловую структуру.
Вот против этой «тыловой» политики мы и восстали.
Восстали с разным рвением и с разным пониманием сути происходящего. Владыка Виктор в большей степени, а владыка Антоний в степени меньшей.
Вся Церковь следила за нашим противостоянием.
Оно шло с переменным успехом.
Отцу Вениамину Жукову удалось ещё больше усилить давление на Людмилу Дмитриевну Роснянскую и фактически, «перетянуть» её на свою сторону. За короткое время, на официальном электронном узле РПЦЗ (В) и узле П. Н. Будзиловича появились «порочащие» нас статьи. А в интернете продолжился активный сбор подписей священников и монашествующих в защиту старой церковной политики РПЦЗ (В) и самого отца Вениамина Жукова. Открылся даже специальный электронный «живой журнал», посвящённый одностороннему показу нарастающих событий.
При такой активности сторонников отца Вениамина и усилившейся лжепроповеди, нам ничего иного не оставалось, как создать свой собственный электронный портал. Что мы и сделали [402], назвав его - «Мансонвилль». Поддерживал православную позицию ещё и портал «Меч и Трость», известного московского писателя и публициста В. Г. Черкасова-Георгиевского. События в Мансонвилле развивались столь бурно, что никто не мог предсказать их развитие или окончание.
И всё же, несмотря ни на что, летели мы с отцом Стефаном через океан в приподнятом настроении.
ГЛАВА ВТОРАЯ. Свечной Собор
«Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками, а что на небесах - кто исследовал?».
(Книга премудрости Соломона. 9:16).
В аэропорту Монреаля нас долго и тщательно проверяли. Очень хотелось спать и как можно быстрее доехать до резиденции Первоиерарха. Но офицер всё копалась и копалась в наших скудных вещах. Чего она там искала? Бог весть.
Монреаль выглядел не слишком приглядно. Из окна приземистого автомобиля [403] он походил на большую и неумытую деревню. Порывы тёплого ветра гнали по улицам мусор. А стаи бездомных собак ничем не отличались и от своих московских сородичей. Судя по низким строениям, места здесь для частной стройки хватало. Город всё тянулся и тянулся…
За городом пошли уже холмы и предгорья, с редкими ухоженными городками и частыми придорожными кемпингами, мотелями или гостиницами. Рельеф местности мне нравился. Отдалённо он напоминал западную или южную Якутию.
Сам Мансонвилль походил больше на ковбойское поселение девятнадцатого века, чем на современное сельское построение. С католической и протестантской церквушками, а так же, тремя или четырьмя десятками двухэтажных домов, протянувшихся по обе стороны от трассы, этот городок ничем особенным не притягивал и не выделялся. За Мансонвиллем твёрдое дорожное покрытие заканчивалось. И дальше уже шла обычная грунтовая дорога. Дорога эта вела к двум или трём фермерским хозяйствам. Потом она шла через мост, в сторону резиденции митрополита Виталия и по пересечённой лесистой местности, выходила к самой американской границе. На одном или двух придорожных щитах туристы могли прочитать о православном русском предместье, то есть о Свято-Преображенском ските, куда мы и направлялись [404].
В скиту нас встретил владыка Виктор. После благословения, он поделился информацией о своих встречах с митрополитом Виталием и госпожой Роснянской. Поведал о тех негативных моментах, с которыми ему пришлось здесь столкнуться. Канадская жизнь владыке Виктору порядком уже надоела. И он с нетерпением ожидал начала Собора и конца столь затянувшегося противостояния. Из монахов, кроме митрополита Виталия и епископа Виктора, здесь больше никого не было. Архиепископ Антоний улетел в Калифорнию, пообещав вернуться только к началу Архиерейского Собора.
Сам скит вызывал у меня тёплые чувства. Располагался он на нескольких десятках гектарах неухоженной земли и с первого взгляда казался сколком с древней Руси. В первоиераршей резиденции – большого деревянного строения – помимо всех положенных по этикету залов, покоев, библиотеки, кухни и прочих вспомогательных и специальных комнат, вкупе с крохотным сувенирным магазинчиком, на втором этаже имелось ещё и несколько монашеских келий. Кельи были и в двухэтажном свечном сарае. Венчал же все эти скитские строения - чудесный Свято-Преображенский храм, красиво построенный из дерева. Вот и весь вам мужской скит. Да, чуть не забыл. Через дорогу от храма, тянулась узенькая тропинка к водной заводи, где виднелась небольшая часовенка с купальней или крестильной. И за храмом ещё лежало совсем маленькое и почти заброшенное кладбище.
Мне подумалось, что, при известной монашеской жизни, в этом тихом и благодатном местечке могли бы спокойно жить и спасаться до двух, а то и трёх десятков монахов [405].
Поскольку кельи везде пустовали, то мы поселились рядом с владыкой Виктором, на втором этаже первоиераршей резиденции. Как только мы вошли в здание, сразу же в нос ударил стойкий кошачий запах. За полутора десятками котов и кошек никто не убирал, отсюда и столь специфический запах. Любовь госпожи Роснянской к этим животным не распространялась дальше простого кормления. Особенно жалко было испорченную ими библиотеку.
Устроившись в своей келье и попив чайку, я предложил епископу Виктору, вместо гида, пройтись со мной до моста, а затем и по иным окрестностям скита. Владыка с радостью откликнулся на это предложение. Выломав кленовые ветки, дабы отпугивать ими многочисленных комаров, мы и отправились в путь.
По дороге к мосту, я с интересом рассматривал дальние возвышенности и гористые участки. До самого горизонта всё вокруг густо поросло лесом. Местность выглядела заброшенно и довольно диковато. Лишь ближе к мосту лес отступал. Появились поляны и проплешины. За ними, нашему взору уже открывались фермерские хутора с заливными лугами и кругами спрессованного сена. Берёзки, клёны, пихты и знакомые кустарники наводили мысль на родные просторы. Но непонятные бухающие звуки и какая-то странная подсознательная тревожность, мысли эти мгновенно стирали.
Всё очень похоже, однако ж – не родина.
Рядом со скитом проживал старый священник Сергий Петров, почти ровесник митрополиту Виталию. За его обширной усадьбой протекал глубокий ручей, впадающий в речку рядом с мостом. Удивительно. Сколько я ни смотрел с берега и с моста в чистую воду, но так и не заметил ни единой, даже и малой рыбёшки. Позднее мне отец Сергий Петров пояснил, что всю рыбу в ручье и речке потравила американская фабрика, работающая выше по течению.
Как и в России, так и здесь стояла такая же точно жара. Но у нас, хоть, комаров нет, а тут их развелось превеликое множество.
И все злые такие, не успеваешь и веткой отмахиваться.
От моста мы повернули с владыкой к скиту и прошли ещё значительное расстояние. По лесной дороге дошли почти до самой американской границы. На обратном пути нас остановили канадские пограничники и попросили показать документы. Их машина догнала нас у скитского кладбища. На вопросы пограничников ответить мы ничего не смогли.
Молодые люди в ответ лишь улыбнулись и поехали своей дорогой.
Владыка Виктор в дороге не молчал. Он всё время с горечью размышлял о митрополите Виталии и Роснянской. Сетовал на старческую немощь и забывчивость Первоиерарха, и сильно возмущался наглостью его личного секретаря в юбке. Людмила Дмитриева церковных чинов ни за кем не признавала. Даже и за митрополитом. Архиерей, ни архиерей. Для неё - всё равно. Вела себя так, словно одна она - всё и вся в Церкви Христовой. До Архиерейского Собора оставалась ещё целая седмица.
И как её мирно прожить владыка Виктор толком не знал.
Ясным становилось одно – Людмила Дмитриевна окончательно перешла на сторону отца Вениамина Жукова. И такая ясность складывалась из двух компонентов: из переменившегося к нам отношения госпожи Роснянской, и из участившихся приездов в скит сторонников отца Вениамина. Эти сторонники организовали в резиденции Первоиерарха круглосуточное дежурство. И теперь всё вершилось только с их «хозяйского» ведома. Ещё владыка Виктор поделился интересной новостью о том, что у митрополита Виталия наступают заметные просветления памяти после причастия. Но к причастию Людмила Дмитриевна его уже давно не подпускает и видимо, делает это она не случайно, а с умыслом. Когда митрополит пребывает в забывчивости, то тогда ей легче им манипулировать и управлять.
В келье было не менее душно, чем на улице. Заснуть удалось только под утро. Вскоре я проснулся от странного бухтения. Оно шло со стороны водоёма. Спать уже не хотелось. Надо вставать. После утреннего правила, я зашёл в келью к владыке Виктору. Владыка тоже проснулся. Он работал над своей очередной статьёй, но от утренней прогулки не отказался.
На выходе я спросил его о непонятном бухтении.
- Это местные лягушки так бухтят. Наши квакают, а эти бухтят.
Солнце ещё не поднялось. В свежем воздухе хорошо пахло травой и хвоей. Духота пока не вступила в свои права. Если бы не комары, то раннее утро можно было бы назвать приятным. Кровососущие насекомые налетели на нас тучами, пришлось сразу же выломать спасительные ветки. Помимо лягушачьего бухтения, раздавалось и пение лесных птиц.
Едва мы ступили на просёлочную дорогу и немного прошли по ней в сторону моста, как у самого водоёма заметили молодого оленя. Олень нас первым увидел и замер на месте. До него каких-то с полсотни шагов. Убегать он не очень спешил. Олень гордо стоял у воды и смотрел в нашу сторону. Видно, что дичь здесь непуганая. Да и кому она нужна в этих местах? Канада, это не наша родная Россия. Народ тут сытый, а не голодный. Потому и дичь чувствует себя так вольготно.
Олень долго не стал испытывать свою судьбу, постоял, посмотрел, а затем, не спеша, побежал к спасительному лесу.
В пять часов утра могут не спать только птицы, лягушки, комары и олени. Да ещё, пожалуй, монахи. А в Канаде, так и подавно. Владыка Виктор по дороге строил планы и не слишком надеялся на приезд епископа Владимира и епископа Анастасия. Владыка Антоний (Рудей), уж, точно не приедет. По болезни, не приедет и епископ Варфоломей (Воробьёв). Остальные могут и должны приехать. Им ничего не мешает. И всё же, владыка Виктор сомневался. И я полностью разделял его убеждения.
- Анастасий трусоват, - разглагольствовал мой архиерей. - Побоится он стать на нашу сторону. Да и буквоедство ему помешает. Не поймёт он, что, поддерживая Жукова, тем самым, подписывает себе смертный приговор. А владыка Владимир, видимо, чувствует за собою грешок, потому и не приехал на Синоды. И на Архиерейском Соборе он вряд ли появится.
- И что же тогда делать?
- Не знаю. До Собора ещё, дай Бог, нам дожить. На Антония [406] ты не слишком рассчитывай. Не боец он. Не Синоды надо было созывать, а сразу Собор. Когда ещё Роснянская нас поддерживала. А теперь не знаю, как и быть. Если епископы на Собор не приедут, то придётся нам уезжать из Канады не солоно хлебавши.
- И что потом?
- А потом Жуков нас начнёт прещать. Это у него не заржавеет.
В последующие дни, мы ежедневно совершали утренние и вечерние прогулки. Иногда, к нам присоединялся и архимандрит Стефан. До Собора мы дважды встретились с митрополитом Виталием. И встречи эти оставили тяжёлый осадок в душе. Владыка Виталий выглядел на свои девяносто пять лет. Ходил он самостоятельно. Пытался говорить всем понятные вещи. Людей не узнавал и часто переспрашивал, кто они такие [407] и откуда родом. Переспрашивал даже близко знакомых.
Из-за слабого слуха приходилось с ним разговаривать чуточку громче обычного.
Обе наши встречи проходили под полным контролем прихожан из Монреаля. На православных людей они походили мало и, тем не менее, считались таковыми. Митрополит пробовал «прояснить» нам их линию [408], но, всё время, забывал первоначальную установку Людмилы Дмитриевны Роснянской и постоянно сбивался в сторону второстепенной темы [409]. Позже выяснилось, что Первоиерарху специально давались какие-то особенные медикаментозные средства, влияющие на его память и самостоятельность.
При инструктаже он, возможно и понимал, что от него хотят. Но потом, эти же медикаментозные средства блокировали память, и старец совершенно забывал, о чём его просили накануне.
Выглядело это грустно.
Забывчивость митрополита выводила из себя госпожу Роснянскую. Когда же владыка Виталий начинал к нам прислушиваться и соглашаться, она, тут же, своим дерзким криком заставляла его вздрагивать и пытаться отступать назад. Пренеприятное зрелище! Мне тогда ещё подумалось, что с этими людьми, лишающими Первоиерарха причастия, добиться от него здравого рассуждения и дееспособности будет невозможно. И что такая очевидная неприязнь (и это ещё мягко сказано) душеприказчика и её дешёвая разменность не послужат к улучшению здоровья старца-митрополита и не продлят ему жизнь.
Накануне дня памяти святых Царственных Мучеников, я служил в храме Всенощную службу. Владыка Виктор и отец Стефан пели и читали на клиросе. Я отслужил только Вечерню. Приехал архиепископ Антоний (Орлов) и Утреню служил уже он.
Казалось, ничего не предвещало необычного.
После Всенощной мы немного пообщались и потом начали готовиться к Божественной Литургии. Как и ожидалось, из епископов больше никто нас не поддержал и на Архиерейский Собор не приехал. Оставалось лишь уповать на Господа Бога. С утра отслужить Божественную Литургию. А там, как Бог даст. Однако не тут-то было. Утром мы столкнулись с непредвиденным обстоятельством. Когда пришли к храму, то нашли его закрытым на висячий амбарный замок.
Владыка Антоний пошёл в резиденцию митрополита выяснять, в чём же, всё-таки, дело и вернулся оттуда в сопровождении толпы беснующихся монреальских прихожан. Оказывается, это они закрыли храм. И закрыли не просто так, а с одной единственной, но сатанинской целью – дабы не допустить Божественной Литургии в день памяти святых Царственных Мучеников. В храме остались наши Богослужебные книги и два чемодана владыки Антония с облачениями и другими вещами.
С этого момента началось уже не противостояние двух церковных позиций, а самое настоящее и вопиющее беззаконие. Беззаконие исходило от сторонников отца Вениамина Жукова. И как это ещё назвать по-другому? Я не знаю. Представьте себе трагикомическую ситуацию, когда группа беснующихся прихожан не пускает в храм заместителя Первоиерарха в сане архиепископа, правящего архиерея Южно-Российской епархии и члена Архиерейского Синода в сане епископа и двух архимандритов перед началом Литургии в день памяти святых Царственных Мучеников.
Кто их благословил на такой смертный грех?
Кто-то же благословил.
Начались переговоры, чтобы вернули нам оставленные в храме книги и вещи. Они потребовали список и т. п. После долгих мытарств, имущество нам вернули. И что делать дальше? Владыка Антоний принял решение служить Литургию в свечном сарае. Туда сторонники отца Вениамина глаз не казали. Если бы они знали, что владыка Антоний постоянно с собой возит евхаристический набор, то, Бог весть, как бы они поступили. Скорее всего, выгнали бы и из свечного сарая…
После небольшой приборки, мы стали служить.
Служить Литургию можно везде. В период гонений на Церковь, катакомбники так и служили. В подземелье, в горах, лесу, сарае или ещё где. Владыка Антоний ночью испёк просфоры. Вино у него, как и облачение, лежало в чемодане.
- Благословенно царство…
Литургисал архиепископ Антоний. Владыка Виктор ему сослужил. Я читал Апостол. Отец Стефан помогал петь и читать на клиросе.
Служба прошла великолепно.
Но как быть дальше?
Обсуждению этого вопроса мы и посвятили несколько часов времени.
Следовало окончательно выяснить положение с митрополитом. Вскоре владыка Антоний вернулся с сообщением о недопущении его к Первоиерарху. Владыку Антония даже не пустили к нему в резиденцию. Как он выразился: «захлопнули двери перед самым моим носом». Проще говоря, митрополита Виталия полностью от нас изолировали, посадив его под домашний арест. Если раньше церковное управление находилось в руках госпожи Роснянской и отца Вениамина Жукова, при, более или менее, свободном митрополите Виталии, то теперь оно сконцентрировалось непонятно у кого и при заточённом Первоиерархе.
Мы довольно горячо обсуждали критическую церковную ситуацию. И долгое время не могли прийти к единому мнению. Не приехавшие на Собор епископы, по сути дела, уклонились от решения насущных церковных дел, показав, тем самым, свою полную архиерейскую несостоятельность. Но нам от такой констатации факта легче не становилось. После долгих дискуссий, решили начать предсоборное совещание [410] и одновременно попытаться, ещё и ещё раз, вызвать этих епископов в Мансонвилль. Владыка Анастасий колебался и мог приехать. Непонятно было полное молчание епископа Владимира. Даже за больным владыкой Варфоломеем архиепископ Антоний решил снарядить целую вспомогательную экспедицию и физически помочь ему прибыть на Собор.
За последующие дни, было дополнительно направлено до десяти приглашений на Собор каждому из саботажников в архиерейском сане. На приглашения откликнулся один лишь епископ Анастасий. Он по много времени всё разговаривал с владыкой Антонием по телефону, выясняя сложившуюся обстановку и позиции сторон в Мансонвилле.
Дважды он разговаривал и со мной. И по довольно «скользкому» разговору, я так и не понял, чего же владыка Анастасий хотел.
Период ожидания ответов от архиереев запомнился неоднократными попытками прихожан из Монреаля нашего насильственного изгона из мужского Свято-Преображенского скита. Канадские полицейские, приезжая по их вызовам, всё никак не могли понять и взять себе в толк, что же эти русские между собой не поделили. Полицейские не находили видимых причин конфликта и обоснования своих, столь частых и надоедливых, вызовов. Стражи местного правопорядка вели себя подчёркнуто корректно. И всякий раз, убеждаясь в подлинности документов, и правомочности нашего пребывания на скитской территории, лишь недоуменно пожимали плечами и с извинениями уезжали обратно в участок. Потом, из-за нескольких исключающих себя, по смыслу, бумаг, исходящих, якобы, по воле, вызвавшего нас из России, Первоиерарха, дело дошло даже до освидетельствования митрополита на предмет дееспособности.
Всё это уже многократно описано и показано на интернетных страницах, и у меня нет никакого желания повторяться.
Поведаю вам о том, что осталось за «кадром».
Время тянулось медленно и чем-то, надо было его заполнять. С первых же минут своего пребывания в Свято-Преображенском скиту, архиепископ Антоний (Орлов) взял над нами общее руководство. Никто ему в этом и не противился, полагая его верховенство, как должное. Ежедневно он служил Всенощную и Литургию. Однако и после служб оставалось ещё очень много свободного времени. Предсоборные совещания протекали бурно, но и они не могли длиться до безконечности. Обычно, эти совещания после обеда заканчивались. Владыка Антоний оставался в свечном сарае выслушивать длинные лестные монологи Ирины Виноградовой, а мы разбредались по скиту, кто куда. Отец Стефан уходил к себе в келью. Мы же с владыкой Виктором сидеть в духоте не могли, поэтому продолжали измерять шагами окрестности.
Нас сильно возмущало бездействие владыки Антония и ещё то, с каким он особенным подобострастием выслушивает Ирину. С Ириной, ладно, пусть слушает, если нравится, а вот с его бездействием смириться нам было труднее. И владыка Виктор и я считали, что пора уже что-то делать конкретное. Оставлять Церковь Христову без канонического управления было нельзя, следовательно, надо решительней действовать, без оглядки на чьи бы то ни было мнения.
- Не потянет он духовное лидерство, - высказал, однажды, своё отношение к архиепископу Антонию владыка Виктор. – А ставить больше и некого. Харизма-то у него есть. Тут не поспоришь. Как же, посох он подавал самому Иоанну Шанхайскому. Америка, не Россия. И в России одной лишь харизмой не обойдёшься.
Мне подумалось, что владыка Виктор слишком уж ревностно относится к главенству владыки Антония. И даже, грешным делом подумалось: «а не метит ли он на его место?». И подумалось мне так не безпочвенно. Уж, кто-кто, а я-то хорошо знал своего архиерея. Его притязания на духовное российское лидерство, так вскружили ему голову, что «пальму первенства» он отдавать никому не хотел.
- Бог поможет владыке Антонию, - ответил я своему архиерею. – Да и мы от помощи не откажемся…
- Ты думаешь, он попросит помощи? – перебил скептически епископ.
- Разве, нет?
- Ох, не знаю, не знаю. Нет у меня к нему полного доверия. Ты заметил, как он подобострастно выслушивает лестные байки Ирины?
- Заметил.
- То-то же. Как можно по три часа её слушать? И каждый день - одно и тоже, одно и тоже. Ну, да ладно. Не меня же ставить первым.
Владыку Виктора можно было понять. Канадская виза у него скоро заканчивалась, а мы всё ещё так ничего не приняли и не решили. Постоянные полицейские проверки уже надоели. Сказать, что они, как-то, выбивали нас из колеи нельзя, однако же и оптимизма эти проверки не добавляли.
В один из дней, мне принесли распечатку из интернета, где стояли подписи священников и монашествующих в защиту отца Вениамина и его церковной политики. Среди прочих подписей знакомых и незнакомых фамилий, я увидел и подписи архимандрита Вениамина (Вознюк) и игуменьи Иулиании из Чили. Меня это несколько обезкуражило. Не верилось, что и эти Божьи люди тоже поставили свои подписи под таким, «громко кричащим», документом.
С благословения владыки Виктора, я позвонил в Чили и выяснил причину появления их подписей. Первым трубку поднял архимандрит.
- Как же вы поставили свою подпись, батюшка? – спрашиваю я у него после представления и обычных приветствий.
- Отец Николай Семёнов мне позвонил и попросил подпись. А так, я ничего не знаю.
- Тогда, может быть, вам лучше снять свою подпись?
- Снимите. Я не против.
Примерно, то же самое мне ответила и матушка Иулиания. С одной лишь странной добавкой в конце своего краткого монолога.
- Только прошу вас, отец Дамаскин, послушайтесь меня - не ставьте вместо митрополита Виталия архиепископа Антония (Орлова).
- Хорошо, - ответил я матушке.
Вместо митрополита Виталия мы никого и не думали ставить. И я тогда не придал значения особому смыслу сказанных игуменьей слов [411].
Как-то, живущий по соседству с резиденцией митрополита Виталия, отец Сергий Петров зазвал нас в гости. Тогда-то он и поведал о причине безрыбья в местной воде. Несмотря на весьма и весьма преклонные года, держался батюшка ещё довольно бодро. И дом свой содержал в полном порядке, и вокруг дома. Оказалось, что это с его помощью выстроен скитский храм. Жил он один. Правда, изредка наведывались к нему родственники, помогая прибраться в доме и ещё кое в чём. Посидели мы, поговорили о России и, попив чайку, возвратились к своим насущным церковным проблемам. Старого батюшку они не особенно волновали. Хотя, он и пытался не быть от них в стороне.
Знаменитый Указ №15 заместителя Первоиерарха архиепископа Антония (Орлова) о сложившейся катастрофической управленческой ситуации в РПЦЗ (В) и о временном принятии им на себя первоиерарших полномочий, явился давно назревшим и единственно правильным каноническим актом. Настоятельное принятие этого Указа исходило по воле не только самого архиепископа Антония, но и по воле Архиерейского Собора. Владыка Антоний набросал его тезисы и после моей незначительной редакции, Указ увидел свет.
Этот, жизненно необходимый и наиважнейший для Церкви документ был принят уже после наших (архимандрита Стефана и моей) архиерейских хиротоний. Документ давал архиепископу Антонию (а не госпоже Роснянской и отцу Вениамину Жукову) реальные управленческие права и в то же время, оставлял митрополиту Виталию, исходя из его старческого возраста и практической утере дееспособности, почётнейшее и наипервейшее место в Церкви.
Говорить или даже думать о каком-то восхищении архиепископом Антонием (Орловым) церковной власти – глупо. Наоборот, церковная власть, от незаконного управления госпожой Роснянской и отцом Вениамином, перешла в законное каноническое русло.
И в Церкви снова возобладало каноническое архиерейское управление.
Первым на Соборе хиротонисали во епископа - Усть-Сысольского и Северо-Российского - архимандрита Стефана (Бабаева). Меня владыка Антоний хиротонисать не собирался. Причина его отказа проста. Дело в том, что владыке Антонию показалось, будто бы, епископ Виктор (Пивоваров) находится под моей полной или же частичной зависимостью. Отсюда и его колебания. Не знаю, почему ему так показалось? Возможно, из-за моей свободы высказываний? На Западе не принята откровенность. Бог весть. И только, когда тюремщики митрополита Виталия сбросили владыку Антония с лестницы, только тогда он принял решение о моей архиерейской хиротонии. Колебания и «видения» его мгновенно улетучились. И в этот же день, я был наречён и хиротонисан во епископа Московского [412] и Центрально-Российского.
Случилось сие торжественное церковное событие в день памяти преподобного Антония Киево-Печерского – родоначальника всего русского монашества. Запомнилась мне епископская хиротония ещё и тем, что она совпала с похоронами моего родного отца - раба Божьего Михаила. Утром раздался печальный звонок из России. И младший брат сообщил мне об этой новости. Перед самой кончиной, отец мой покаялся и через покаяние, и причастие был принят протоиереем Валерием Рожновым в лоно РПЦЗ (В) [413].
Из-за усилившегося давления со стороны наших гонителей и по причине окончания визы у владыки Виктора, несколько Соборных заседаний пришлось провести в придорожных гостиницах. В этих гостиницах владыка Виктор скрывался от визовых неприятностей, а мы приезжали к нему в «гости» и проводили заседания Собора прямо на гостиничных открытых верандах. Никто нам не мешал. И именно, на этих выездных заседаниях были приняты наиважнейшие Соборные документы.
Впервые в истории РПЦЗ Архиерейский Собор (Свечной Собор) отказался от либерально-масонской «аполитичности» и вернулся к традиционному монархическому вероисповеданию. Вернулся к борьбе за православную монархию. Наконец-то, Собор признал таинства Московской патриархии безблагодатными и сделал практические шаги, вытекающие из этого признания. А так же, признал Русскую Православную Зарубежную Церковь всей полнотой Поместной Русской Церкви и наметил пути возвращения церковного управления в Россию.
Как секретарь Архиерейского Синода и теперь уже в архиерейском сане, я вёл все эти заседания. Внимательно записывал предлагаемые формулировки текста. Уточнял позиции их авторов. Следил за ходом и порядком выступлений. В конце заседания, мы все вместе тщательно редактировали, выбирая наиболее удачный вариант текста. А затем, уже после общего редактирования, утверждали его простым голосованием, подписывая окончательный вариант.
С Божьей помощью, получалось.
Хотя и не без некоторых неприятных эксцессов.
На одном из самых последних заседаний, неожиданно, заспорили владыка Виктор и владыка Антоний. Рьяный спор у них вызвало крещение, переходящих к нам верующих людей из Московской патриархии. Владыка Виктор настаивал на том, чтобы переходящих людей из Московской патриархии принимать так, как их принимали и раньше, то есть без крещения.
А владыка Антоний, наоборот, был только за обязательное крещение. Спор постепенно разгорался. И вскоре разгорелся до такой степени, что владыка Антоний потерял над собой контроль. Он вышел из себя, обозвав епископа Виктора «хуже Жукова».
И вот на такой минорной ноте, похоже, засобирался уезжать в свою Калифорнию.
Мы с владыкой Стефаном сидели совершенно обезкураженные. Слушали и наблюдали за происходящим конфликтом, и не знали, как же этот конфликт «замять» или погасить. Со стороны, спор двух наших старейших и авторитетнейших архиереев выглядел омерзительно. И дело даже не в том, что эти два старых человека унизили себя, столь глубоким падением, до оскорбления друг друга. По-человечески это ещё можно было, как-то, понять. Понять и простить.
Но, если бы только одно это.
Они пошли гораздо дальше, забыв обо всём на свете. И главное, забыв о Церкви Христовой. И тем самым, поставив себя, свою человеческую гордыню и свои непомерные амбиции выше Неё. Это явление, не знаю, как владыке Стефану, а лично мне западало в душу и делало ей невыносимо больно и тяжело.
Сейчас уже трудно припомнить детали этого заседания. Трудно припомнить всё точно и до мельчайших подробностей. Слишком много времени, эмоций и всего утекло. Когда в перепалке между владыкой Антонием и владыкой Виктором возникла небольшая пауза, я осмелился встать и сказать, буквально, следующие по смыслу и духу слова.
Сказать их и от себя многогрешного, и от моего собрата во Христе, владыки Стефана.
- Ваши Высокопреосвященства, - обратился я к владыкам подчёркнуто официально. – Вы старейшие и уважаемые нами люди и архиереи. На вас в Церкви держится очень и очень многое. А сегодня взоры и чаяния верующих людей обращены сюда. Обращены на наш Архиерейский Собор. Обращены на вас и на нас. Верующие люди ждут от нас не непримиримых споров, а архипастырской любви и православных Соборных решений. В своём споре вы забыли о людях. И забыли о нас с владыкой Стефаном. Разве мы не епископы Церкви? И разве мы не полноправны в принятии тех или иных решений? Почему этот вопрос решаете только вы вдвоём, не спросив и нашего архиерейского мнения? Разве так справедливо? Давайте, собратья наши дорогие, остановимся в споре. Остановимся и попробуем вместе, Соборно принять православное решение по этому вопросу.
Что-то я говорил ещё. Господь дал, что сказать. Слава Богу, моя речь не оказалась совершенно пустой и безплодной. Она подействовала на обоих спорщиков примирительно. Владыка Антоний и владыка Виктор успокоились.
И с Божьей помощью, мы приняли то решение, которое и было необходимо для Его Церкви.
Так-то оно, так.
Однако после столь нелицеприятного спора, а затем, пусть и скорого примирения, в моей душе зародилось сомнение. Сомнение о первенстве личностного, а не о первенстве Церкви, у владыки Антония и владыки Виктора. Вольно или невольно, мне стало думаться, что, ради удовлетворения своих амбиций или чего-то ещё, эти старейшие владыки могут, когда-нибудь, изменить церковным интересам и отпасть от Церкви Христовой. На подобные думы наводил меня ещё и такой вопрос - что могло бы случиться или произойти, не вмешайся я, вовремя, в их спор и с Божьей помощью, не загасив огонь разгорающегося зла и такой личной неприязни? Разругались и разъехались бы по домам?
Наверное, так.
Ибо, ничего другого у нас не оставалось.
Дабы, как-то, успокоить владыку Виктора, очень сожалеющего [414] «о потере своего духовного лидерства» и едва ли, не архипастырского авторитета, а также отдавая должное его церковным заслугам, Архиерейскому Собору было предложено возвести правящего архиерея Южно-Российской епархии в сан архиепископа. Предложение исходило от меня.
Никто против него не возражал.
Таким образом, владыка Виктор стал архиепископом.
Если говорить шире, то и сам вопрос о наказании и поощрении священников был поднят на Соборе автором этих строк. За долгие годы РПЦЗ очень скупо поощряла своих российских священников. И мне казалось это неправильным. Разумеется, священники служат не ради наград. Но, коль, наказания и поощрения в Церкви существуют с незапамятных времён, почему мы должны от них отступать? Владыки согласились с моими доводами и несколько священников наградили.
В числе награждённых [415] оказался и отец Иоанн Савченко из Славянска-на-Кубани. Я просил владыку Виктора дать игуменство и иеромонаху Сергию (Чурбакову), однако в отношении этого клирика владыка Виктор остался неумолим.
После получения от Собора высокого архиепископского сана, владыка Виктор зримо переменился. И переменился не только в сторону покладистости, и вящей сговорчивости. Это, как бы, получалось у него само собой. Владыка Виктор стал заметно добрее и человечнее относиться к окружающим людям. А, к примеру, в отношении меня, так и вовсе, выказывал теперь одно лишь подчёркнутое почтение и самое, что ни на есть, дружеское расположение. Чего за ним давно не наблюдалось [416].
Владыка Антоний и владыка Стефан вели себя без изменений. Оба, не слишком разговорчивые, они немного походили друг на друга. Позднее выяснилось, что владыке Антонию наговорили обо мне много лжи. Ложь исходила из Южной Америки. И владыка Антоний ей поверил. Поэтому и она тоже явилась одной из причин его несогласия на мою хиротонию.
Сам же процесс работы над Соборными документами проходил очень насыщенно и интересно. Можно даже назвать процесс этот творческим. И если так назвать, то никакой ошибки не будет. Как ведущий заседание, обычно, я и начинал выстраивать «каркас» по, той или иной, теме. А затем уже архиереи его наполняли и дополняли. Такая форма работы оказалась весьма продуктивной и, по-моему, верной. Каждый из нас вносил свою посильную лепту в формирование текста документа. Кто-то вносил больше, кто-то меньше. Количество слов здесь не имело особого значения.
Почти ежедневно в мужской Свято-Преображенский скит приезжали мирские люди из Канады и США. Большинство из них приезжало в поддержку стороны отца Вениамина Жукова. Не все, но некоторые из этих приезжих людей, вели себя довольно непочтительно и не только к нашей церковной позиции, что естественно, но и к архиерейскому сану. А один хромой монах [417], присланный, якобы, от епископа Владимира (Целищева), тот даже выказал самое настоящее беснование. С портативной видеокамерой и как оглашенный, он всё бегал с утра по скитской территории. Коряво и смешно подпрыгивал. Что-то дико выкрикивал. Делал руками пассы, будто, колдуя или вызывая нас на какие-то ответные действия.
Однако его странное поведение, кроме удивления, ничего другого вызвать у нас не могло.
И слава Богу, не вызвало.
Приезжали в скит и другие люди. Те, кто поддерживал нашу православную позицию. Приезжали они из Бостона и откуда-то ещё. Так что никакого одиночества или изолированности мы не чувствовали. Верующие люди звонили по телефону из разных уголков земли, писали письма по электронной почте. Их любовь и горячая поддержка согревала наши сердца, и заставляла трудиться с удвоенной силой.
Мы проводили Архиерейский Собор, а местное население жило своей размерянной жизнью. Канадцев приходилось видеть, всё больше, из окна легкового автомобиля, чем наблюдать их поближе. Долгое время меня терзало чувство какой-то непонятности. Я смотрел на аккуратненькие жилые домики, на ухоженные вокруг них лужайки и всё никак не мог понять, откуда вызвано это чувство непонятности. И только потом уже до меня дошло, что, глядя на эту канадскую загородную идиллию, я невольно сравниваю её с нашей русской сельской (а то и городской) устроенностью.
Вижу разницу, но никак не могу её понять и определить, в чём же эта разница?
Немного погодя я понял, что меня так смущает и вводит в непонимание. Около канадских домиков и вокруг них, не хватает наших русских огородов и палисадников! Вот в чём загвоздка. Везде, куда ни посмотришь – сплошные подстриженные газоны и лужайки. Почему они не выращивают овощи? Ведь, очень удобно, когда свежие овощи у тебя всегда под рукой, и ты всегда можешь их быстро и легко подать к столу - лучок там, укропчик или редисочку, обратно же и молодая картошечка, со своего родного огорода – не чета купленной в магазине. Я спросил у знающих людей.
- Почему здесь так, а не так, как у нас в России?
- А зачем им огороды? - ответили мне вопросом на вопрос. – Люди не тратят на земельные вопросы лишнего времени. У простого канадца его и нет. Каждый человек занимается своим делом. Канадцу привычней пойти в магазин и купить всё, что ему надо, чем заниматься огородничеством.
- Но, ведь, домашнее вкуснее, - не отставал я.
- Может и вкуснее. Но они живут так, а не иначе.
Где-то в стороне проходила местная железная дорога. И каждое утро, я слышал протяжный локомотивный гудок. «Туту» - раздавалось вдалеке. И такой этот гудок казался мне слабеньким и по игрушечно детским, что хотелось пойти и помочь канадскому локомотиву тянуть весь состав. Наш поезд и локомотив слышно за многие километры. И когда гудит, и когда едет – чувствуется такая сила и такая мощь, что, аж, земля содрогается. А тут, всего лишь слабенькое и маломощное: «туту».
И ещё об одном моменте поведаю вам. Канадская пшеница считается одной из лучших в мире. И это, действительно, так. В мою бытность в Якутии, в наших пекарнях из неё выпекали такой прекрасный хлеб, что лучшего хлеба я и не едал. Казалось бы, в самой Канаде должен быть хлеб не хуже якутского. Увы, нормального хлеба мы так и не попробовали. То ли, печь не могут, то ли, ещё что. Хлеб у них получается слишком рыхлый и совершенно безвкусный.
Как зелёная наша трава.
А людей толстых много. В том числе и молодых. Следовательно, образ жизни и питание канадцев примерным назвать трудно.
В один из свободных вечеров, архиепископ Антоний рассказал нам о своей зарубежной жизни. Рассказал о детстве, интересных знакомствах и долгих скитаниях вместе со всей русской иммиграцией. Родился и вырос он в Китае. С самых малых лет прислуживал в храме, где служил владыка Иоанн (Максимович) Шанхайский. Детская память цепкая и владыка с увлечением вспоминал своё прошлое. Он целыми часами мог рассказывать о шанхайском детстве и про епископа Иоанна Шанхайского.
В печати появилось много разных мифов и кривотолков в отношении известного русского святого наших окаянных дней. И один из них, будто бы епископ Иоанн долгое время поминал советского патриарха Алексия (Симанского). Владыка Антоний развеял этот миф, поведав, что епископ Иоанн (Максимович) помянул Алексия (Симанского) всего лишь один единственный раз на Великом входе. И то, помянул по послушанию. По письменному приказу своего правящего архиерея - начальника Российской Духовной Миссии в Китае - архиепископа Виктора (Святина) [418]. Начальник Российской Духовной Миссии ввёл тогда владыку в заблуждение, написав ему в записке, что, будто бы, Архиерейский Синод РПЦЗ прекратил своё существование, поэтому и следует теперь поминать Алексия (Симанского).
Человек столь греховен, что лесть и похвала ему гораздо милее критики и объективности. Лишь редкие святые угодники Божьи уходили от земной бренной славы, а, следовательно, уходили и от человеческой лести с её угодничеством и похвалой. Если заглянуть внутрь себя и покопаться не столь и глубоко, то и аз окаянный, не избежал сего же греха. Чего там скрывать и греха таить. Приятней, всё-таки, когда тебя хвалят, а не ругают, хотя бы и праведно.
Не избежал лестного греховного плена и владыка Антоний. Со стороны это было очень заметно. Постаралась Ирина Виноградова. Уж, что-что, а льстить - она великий мастер. Слыша в свой адрес лестные слова, владыка Антоний на секунду замирал от удовольствия и только потом уже продолжал рассказывать дальше. Бог весть, не по столь же банальной причине (или одной из причин), он мог и сидеть с ней за одним столом, выслушивая её восторженные многочасовые монологи, которые так не нравились владыке Виктору (Пивоварову) и автору этих строк?
За всё время нашего пребывания в Свято-Преображенском мужском скиту погода так и не изменилась. Пару раз прошёл слабенький дождик, вот и всё. Духота от дождика увеличилась. И злых комаров не уменьшилось. Ещё дважды по утрам мне встречался олень. И всё на том же самом месте, как и в первый раз. Тот ли олень или другой – точно сказать не могу.
Скорее всего, разные повстречались животные.
Несмотря на гостиничные «убежища», владыка Виктор, всё же, немножечко нервничал. Почти на каждом заседании Собора он торопил нас с Его окончанием.
- Надо заканчивать, - убеждал нас старый архиерей. - Виза просрочена и меня не выпустят из Канады. Вам хорошо здесь заседать, а мне, каково?
- Выпустят, владыка, - успокаивали мы его. – Неужто оставят в Канаде? А, коль и оставят, так - не велика беда. Поживёте, освоитесь здесь и такую создадите епархию, что ещё и мы позавидуем.
- Из кого тут создавать? Кругом одни жиды, да поджидки, - уже слегка успокаиваясь, но, до конца, так и не уступая, произносил Южно-Российский архиерей.
После такого успокоительного вступления, мы читали молитву и садились за стол продолжать начатую накануне работу. От тех заседаний осталось много цветных фотографий. Иногда, я смотрю на них и вспоминаю канадские события ярче.
Тема, о чиноприёме приходящих к нам верующих людей из Московской патриархии, продолжила своё развитие, когда мы коснулись деталей приёма. Серьёзный разговор зашёл после вполне уместного вопроса о том, принимать ли из Московской патриархии людей без крещения, если по канонической форме их правильно окрестили? То есть, при полном трёхкратном погружении и при соблюдении всех остальных священнических действий и молитв. Даже владыка Антоний немного заколебался. Кто-то, был за крещение. Кто-то, был против оного. Приводились какие-то аргументы.
Но всё выглядело и оставалось, как-то, не очень убедительно.
Откровенно сказать, раньше я не слишком задумывался о крещении, как и вообще, не слишком задумывался о благодатности или безблагодатности Московской патриархии. Священнодействовал так, как священнодействовал и владыка Виктор. Эти вопросы, если меня, как-то и затрагивали, то затрагивали, походя. И я их относил к компетенции своего правящего архиерея, Архиерейского Собора. Справедливо полагая, что мне ли, простому иеромонаху, мыслить и рассуждать о столь высоких богословских вершинах.
Уже на самом Архиерейском Соборе пришлось, над всем этим проблемным спектром, крепенько призадуматься. И после небольших колебаний в разные стороны, я уверенно принял и поддержал позицию архиепископа Антония (Орлова), а не позицию архиепископа Виктора (Пивоварова), чем очень сильно его тогда обозлил и расстроил.
И вот снова возник этот же самый вопрос, только теперь уже в более конкретных деталях и формах. Спора особого не было. Говорили владыки спокойно. Но желаемого результата долго не находилось. Я тоже думал. И вдруг в голове прояснилось.
- А какая разница, как их там крестили, коль, мы признали церковные таинства Московской патриархии безблагодатными? – задал я владыкам вопрос, и тут же сам на него и ответил. – Нет никакой разницы. Поэтому, всех приходящих из Московской патриархии, надо крестить, без всякого сомнения.
Епископы немного подумали и согласились.
И всё же, эта сложнейшая тема так и осталась не до конца продуманной. Потом уже, в реальной приходской жизни, наши пастыри и архипастыри столкнулись со многими, выходящими из неё, трудностями и проблемными вопросами.
К примеру: как быть с теми верующими людьми, кто пришёл к нам из Московской патриархии, будучи неправильно крещёным, но уже многократно причащавшимся в РПЦЗ или РПЦЗ (В)? Крестить ли их, если они того захотят или даже потребуют? С какого времени считать церковные таинства Московской патриархии безблагодатными? С 1927, 1943, 1983, 2006 годов [419]? И как быть с теми священниками или даже епископами, получившими крещение, дьяконство и священство в этой советской псевдоцерковной организации? Крестить их и перерукополагать?
Или всё оставить, как оно есть?
Церковной жизнью ставились и другие, не менее трудные, вопросы. И отвечать на них приходилось уже каждому архиерею отдельно и по своему архипастырскому усмотрению. Трудности возникали и при приёме прихожан и священников из расколов. Иной раз, просились к нам священники со столь запутанным церковным прошлым, что не так просто было в нём разобраться [420].
На Соборе была достигнута устная договорённость об оповещении всего епископата при принятии (отказе) или рукоположении священника. Информация направлялась секретарю Синода, а от секретаря уже исходила к остальным архиереям. Такая договорённость исключала ошибок в приёме. Не принятого священника в одной епархии не принимали и во всех остальных.
Вопрос о рукоположении евреев на Соборе тоже поднимался. Исходя из печального и всё ещё продолжающегося опыта, архиереи единогласно постановили - евреев не рукополагать. Что неукоснительно соблюдается и доныне. Почему мы так постановили? Да, потому что не осталось у нас доверия к этому человеческому роду-племени. На протяжении всего времени, священники-евреи составляли мощную (гласную и негласную) оппозицию русскому священству, как в РПЦЗ, так и в РПЦЗ (В). Я, уж, не акцентирую ваше внимание на отсутствие у, подавляющего большинства, священников-евреев трепетности к святыням, на алтарской и прочей неряшливости и сомнительности вероисповедания.
Хотите быть православными? Ради Бога. Но зачем же вы рукополагаетесь и даже мечтаете о епископстве? Выше уже было сказано, что только в Южно-Российской епархии священники-евреи составляли треть, а то и едва ли не половину от всего клира.
В одной из своих статей мне уже приходилось писать на эту тему. В ней я пытался раскрыть причину столь упорного продвижения евреев по церковной иерархической лестнице. Уж, коль есть такая потребность в спасении, почему бы им не создать Еврейскую Православную Поместную Церковь. Ан, нет. Они пытаются спасаться в других поместных церквах. И не просто спасаться, будучи мирянином, а в священническом сане и сане, как можно более высоком. Если их в РПЦЗ (В) имелось множество, то в других юрисдикциях – большинство. Особенно в Московской патриархии.
Там больше половины епископата еврейской национальности.
Поймите меня правильно, Поместная Русская Церковь открыта для всех людей, в том числе и для евреев, но не на иерархических же высотах! К примеру, в Греческой Поместной Церкви ещё исстари существует такое правило, когда будь ты, хоть, самым распрекрасным или даже святым архимандритом, но если ты не грек, то ты никогда не сподобишься епископского сана.
Обвинения в, какой бы то ни было, дискриминации я категорически отвергаю. Да и подумайте сами, есть ли у евреев хотя бы один русский раввин? В России - президент еврей. А будет ли когда в Израиле президентом русский человек?
Подумайте и ответьте сами на эти простейшие вопросы.
Архиерейский (Свечной) Собор остался памятным событием в нашей жизни. Господь очистил зёрна от плевел и указал нам яснее церковный путь. Нам казалось, что теперь-то мы заживём более плодотворной жизнью. Никто нам не будет мешать и что церковное строительство возвысится на целый порядок, а то и больше. Церковного и человеческого оптимизма хватало. И разъезжались мы по своим весям, наполненные радужными надеждами и молитвенными мечтаниями.
Первыми улетали из Канады владыка Стефан (Бабаев) и пишущий эти строки. Выпускали нас из страны безо всяких осмотров. За три седмицы мы так измотались и так устали, что едва держались на ногах. Особенно усталость отражалась на владыке Стефане.
Наконец, все пограничные и таможенные препоны пройдены, и мы в воздухе. Слава Богу! Позади остались одни воспоминания.
А впереди нас ожидает Россия.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Расколы и итоги
«Конец дела лучше начала его; терпеливый лучше высокомерного. Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых».
(Книга Екклесиаста или Проповедника. 7. 8:9).
После неожиданно быстрого отхода митрополита Виталия (Устинова) ко Господу, коалиция наших бывших противников стала разваливаться прямо на глазах. Первого, как и ожидалось, отправили на покой епископа Анастасия (Суржика). Отец Вениамин Жуков «дерзости» его не забыл. Он всё припомнил. Припомнил все его прежние непослушания, грехи и отступления, и…
Оставил епископа Анастасия на «покое».
Епископ Владимир после этого акта призадумался. Он стал ощутимее понимать всю шаткость своего положения. По сути дела, без епископа Анастасия, епископ Владимир оставался один на один со всесильным «серым кардиналом» и видимо, он не рассчитывал в борьбе с ним на свои силы и скорую победу. Поэтому и отнёсся к отправке на покой своего собрата во Христе отрицательно.
Да и сам отец Вениамин попал в патовую ситуацию. Наличие двух, враждебно настроенных архиереев не сулило ему надёжной властной жизни. Однако он не торопил события, избрав старую и годами испытанную тактику выжидания. И вскоре дождался-таки своего. После Алексинского совещания, отец Вениамин Жуков объявил всему миру о единоличной архиерейской хиротонии епископом Антонием (Рудей) двух своих верных клириков из Западной Европы.
Эти архиерейские хиротонии в стане епископа Владимира и епископа Анастасия произвели эффект разорвавшейся бомбы. И им ничего не оставалось делать, как обвинить отца Вениамина в том же самом, в чём его обвиняли и мы, и создать свой Синод. Таким образом, у них образовалось два, исключающих друг друга, Архиерейских Синода. Один - под омофором епископа Владимира (Целищева), а другой - под омофором епископа Антония (Рудей).
К сожалению, не избежали раскола и мы.
Вначале раскольной трагедии ничего не предвещало. По смерти Первоиерарха РПЦЗ (В), как и положено, по канонам, был собран Чрезвычайный Архиерейский Собор РПЦЗ (В). На этот Собор мы пригласили всех епископов Церкви, включая и епископов жуковской коалиции. Кроме владыки Анастасия [421], на наш Соборный призыв так никто из них и не откликнулся.
В повестке дня Чрезвычайного Архиерейского Собора стоял вопрос о совместном покаянии и прощении друг друга за прошлые грехи и ошибки. Но общего покаяния и прощения не получилось. Проигнорировавшие Чрезвычайный Собор епископы от братского покаяния и прощения отказались и тем самым окончательно отпали от Церкви Христовой.
Впервые, за всё время существования Русской Православной Зарубежной Церкви, Чрезвычайный Архиерейский Собор состоялся в России, в кафедральном храме Центрально-Российской епархии, что рядом с Москвой. Собор возвёл архиепископа Антония (Орлова) в сан митрополита и назначил его Первоиерархом. Помимо этих необходимых актов, мы хиротонисали одного кандидата в епископы [422] и вернулись к историческому названию Русской Поместной Церкви – Российская Православная Церковь.
После чего и разъехались по своим епархиям.
Владыки уехали, а я остался. И остался с горьким и тяжёлым осадком на душе. Две серьёзные причины терзали мою душу: крайнее недовольство мной архиепископом Виктором и вторая причина исходила от непристойностей Ирины Виноградовой. Владыка Виктор обвинил меня в узурпации церковной власти, непочтении к нему лично и ещё в том, что я не согласился поставить его заместителем Первоиерарха.
Все эти тяжкие обвинения исходили от его болезненной и сильно ущемлённой гордости, ещё и постоянно подогреваемой моими недоброжелателями. Я знал об их существовании и всё же, таких тяжких последствий не предвидел. Владыке Виктору, после Свечного Собора, всё время нашёптывали о том, чего никогда и быть не могло. О том, что я, якобы, возомнил о себе слишком много. Перестал его уважать и так далее, и тому подобное. И в том же самом духе.
А тут ещё, как довесок к уже сказанному, с Божьей помощью, очень быстро возросла и окрепла Центрально-Российская епархия. Владыка Виктор начал завидовать. Особенно его зависть отчётливо проявилась после моих успешных встреч с казачеством и другими русскими патриотами. Он посчитал, что это только его личное дело встречаться с такими людьми, а не моё. Одним словом, пришлось мне выслушать от него много разных упрёков и несправедливостей.
И слава Богу за всё!
А с его заместительством, так и вообще, вышла трагикомическая история. Прости, Господи! Поведаю и о ней. Накануне рассмотрения этого вопроса, владыка Виктор зашёл ко мне в келью и довольно продолжительно находился возле меня. В это время, я был очень сильно занят своими бумажными секретарскими делами. В голове «крутились» мысли о составлении какого-то очередного документа. И я не до конца понимал, чего же от меня хочет владыка? Ведь, не случайно же он ко мне зашёл? И если бы он сказал напрямую, я бы и поступил, как он того желает. Хочет быть заместителем Первоиерарха. Ради Бога! Я этот вопрос подниму. Предложу его кандидатуру. И пусть решают епископы. Пусть решает Собор. Я не против его заместительства. Но владыка всё ходил, ходил, прошу прощения за такое образное сравнение, как кот вокруг сметаны…
Походил, походил и, ничего определённого и внятного не сказав, ушёл. А я так и не понял, чего же он хотел от меня и чего добивался?
Вот такая предыстория.
А на Соборе уже, когда заместительство кто-то из епископов предложил избирать жребием и жребий выпал на владыку Стефана, разразилась настоящая трагедия. Владыка Виктор встал и чуть ли не плача стал обвинять меня в том, что я, якобы, специально подстроил такие выборы заместителя Первоиерарха, чтобы он им не стал. От такой очевидной лжи все владыки оказались в шоке.
Они её не ожидали от столь пожилого и заслуженного архиерея.
И что делать?
Пришлось в оперативном порядке просить мне у владыки Виктора прощения, а Собору, дабы не обижать пожилого человека, ставить его вторым заместителем Первоиерарха. После я объяснился с ним, но он и слушать ничего не хотел. Ибо, со своим первым и ошибочным утверждением, он уже не мог справиться. Не мог справиться в силу своей духовной немощности.
Обвинения владыки Виктора по поводу узурпации мной церковной власти не выдерживают никакой критики. И вот по каким критериям. На мой взгляд (в отличие от пресвитерского Синодального секретарства), секретарство правящего архиерея в Синоде, это не лишняя власть, а лишняя обуза. Хотя и обуза почётная. У правящего архиерея достаточно власти в епархии. И у него нет лишнего времени ещё и на секретарские обязанности. Исходя из своего и столь малого опыта, считаю, что наилучшим вариантом для должности секретаря Архиерейского Синода может служить викарный епископ.
Опять же, исходя из того малого опыта, полагаю, что в епископате должен находиться человек, с Божьей помощью, генерирующий насущные Соборные идеи и умеющий их претворять в Соборную или же Синодальную жизнь. Если таких епископов будет больше, тем лучше для Церкви. В противном случае, епископат останется неработоспособным.
В РПЦЗ (В) таким генерирующим свойством обладал отец Вениамин Жуков. После него, автор этих строк. И после меня – Ирина Виноградова [423]. Не случайно, раскольничья группа митрополита Антония (Орлова) так и не сумела провести ни одного Соборного или же Синодального заседания.
Забегая вперёд, поведаю, что в РосПЦ могут ставить и проводить решения вопросов архиепископ Иоанн (Зиновьев) и некоторые другие епископы.
Особенного здесь ничего нет. Один человек хорошо делает одно дело, а другой - другое. Поэтому, преимущество в епископате не получает никто. Так как, право голоса у епископа не забирается. Я не оправдываюсь. Просто, не в чем оправдываться.
С Ириной вышло гораздо сложнее, чем с владыкой Виктором. Несмотря на видимые и ощутимые неприятности, изошедшие от него, владыка Виктор, всё-таки, оставался предсказуем. Выходки же этой женщины оказались совершенно непредсказуемыми. И многих людей, в том числе и меня, они просто шокировали. На Соборе в Щербинке она повела себя так вызывающе возмутительно, словно она, по крайней мере, Первоиерарх. Куда там до неё госпоже Роснянской!
Ирина «перепрыгнула» Людмилу Дмитриевну на целую голову.
Не успев, как следует, обжиться и осмотреться, она стала, налево и направо, раздавать уничижительные характеристики нашим прихожанам и обвинять многих из них в жидовстве. И если бы только одно это. На этом Ирина не остановилась. В своём мракобесии она пошла ещё дальше, потребовав от меня, как от правящего архиерея и настоятеля, незамедлительного изгнания неугодных и чем-то непонравившихся ей людей из прихода. Приступила к убеждению в своей правоте других архиереев.
Пришлось резко осадить её бесовские порывы. После одного из разговоров я дал ей понять, что до тех пор, пока я остаюсь епископом Церкви Христовой, она не будет в Ней верховодить. Не женское это дело – верховодить в Церкви. Тем паче, что нам и одного примера вполне предостаточно. Ирина – далеко не глупая женщина. Вместе со своим бесом на пару они быстро сообразили, что я становлюсь им поперёк дороги. Отсюда и все последующие наши нестроения, споры и несогласия, вплоть до раскола.
Обеими руками она ухватилась за моё, якобы, непочтительное высказывание в адрес Новомучеников и Исповедников Российских. И приступила к осуществлению своего дьявольского плана по моему изгнанию из Церкви Христовой. Быстро добилась благосклонности от владыки Виктора. Сделать ей это было очень просто. Как опытный театрал, она хорошо изучила человеческие слабости. А с владыкой Виктором и выдумывать ничего не следовало. Знай только, нахваливай его сочинения и он полностью твой.
Лесть для него – живительная сила.
С владыкой Антонием (Орловым) выходило сложнее, но и с этим епископом Ирина справилась блестяще. Разыграла «духовно-исповеднический» спектакль и владыка Антоний тут же свалился в её бездонную пропасть. Поверили её лжи и все остальные епископы. Кто поверил по недоумию, а кто и из своих, далеко идущих, целей. Через некоторое время я остался с Господом Богом и со своими прихожанами. Они, да ещё владыка Иоанн (Зиновьев), дай ему Бог спасения и здоровья, и помогли охранить Церковь чистой и неповреждённой от ереси, и Ирины Виноградовой.
Обо всех перипетиях смирения и борьбы вы можете подробней прочитать на электронных страницах истории РосПЦ.
Виновата, конечно же, не Ирина. Что с неё взять? Если праматерь наша и та соблазнилась змеем проклятым, а уж об Ирине и речи нет. Слаб и немощен человек. И Ирина - не исключение. Виноваты епископы, допустившие столь вопиющее беззаконие. С нас Богу и спрос. И с меня, в первую очередь. По сей день себя спрашиваю, мог ли я подчиниться Ирине и тем самым, временно оттянуть раскол? Спрашиваю и отвечаю – нет, не мог! Не мог я пойти против правды Божьей!
Врата Церкви Христовой открыты. И каждый может в Неё войти. Если вы допускаете мысль, что я не делал никаких попыток к примирительному диалогу с нашими вчерашними сомолитвенниками, то вы глубоко ошибаетесь. Нет у меня на них никакого зла. Нет и не было. Все они давным-давно прощены. Первый раз, через созыв Чрезвычайного Собора, мы делали совместные попытки к примирению. Но из этого ничего не вышло и не получилось. После, я дважды писал отцу Вениамину Жукову. Писал всё о том же. На одно письмо он ответил мудрёной абракадаброй, а второе проигнорировал.
Властью он делиться, не хочет. Из-под «кардинальской серости», оно, видно, проще церковными процессами управлять.
У, так называемой, РИПЦы весь епископат хиротонисан архиепископом-содомитом Лазарем (Журбенко). Весьма проблематично садиться за один стол переговоров с его последователями. То же самое, могу сказать и в отношении одесского епископа. С тем даже гораздо сложнее. Мало того, что у них в епископате присутствуют содомиты, так они ещё грешат и киприанитской ересью. Плюс принятие к себе секачёвцев. И вообще, столько всего намешано в этом, прости Господи, жидовско-либеральном отстойнике, что не то, что близко, а и на коломенскую версту подходить не хочется. И не подойду. Лучшие его священники перешли к нам. И теперь Агафангел сильно злится и клевещет на нас, где ни попадя.
Прости его, Господи!
Епископ Владимир (Целищев) нарукополагал с епископом Анастасием (Суржиком) себе епископов из евреев. Один-то, уж, точно еврей. Дед у него в Киеве раввинил. А второй, пока, непонятно. Хотя о себе он раньше говорил, как о еврее. С кем там у них и о чём договариваться? Сто раз подумаешь, прежде чем вразумительно и внятно ответишь на этот вопрос.
Есть ещё суздальско-валениновская [424] РПАЦ, «осколки» владыки Антония (Орлова) и владыки Виктора (Пивоварова)…
Со РПАЦ у нас непонятных вопросов никогда не возникало. По своему морально-нравственному и идеологическому наполнению, она сродни одесской организации господина Пашковского. Их отцы-основатели берут своё («архиерейское») начало от лазаревского благословения [425]. Следовательно, такая близкая родственность нисколько и неудивительна.
Раскольничью роль РПАЦ выполнила успешно. РПЦЗ и Московская патриархия давно объединились. И теперь эта псевдоцерковная структура стала властям вместо глазного бельма. Поэтому и последовала «закономерная», и вполне предсказуемая, «прихватизация» Московской патриархией храмов РПАЦ. Тех самых храмов-приманок, переданных в награду суздальцам за учинённый в Церкви раскол. И судя по шуму в еврейских средствах массовой информации, такой наглой и жадной прыти, ни от властей, ни от Московской патриархии, РПАЦ не ожидала. А следовало бы ожидать.
У дьявола снисхождений и пощад не бывает, даже по отношению к своим верным слугам.
Конечно же, никаких переговоров между Российской Православной Церковью и РПАЦ не было и не будет. Во всяком случае, не будет до тех пор, пока у РПАЦ во главе остаётся её нынешний предстоятель.
С владыкой Антонием (Орловым) и владыкой Виктором (Пивоваровым) переговоры, хотя и проблематичны, но всё же возможны. Их начало зависит от покаянной и доброй воли, заблудших и впавших в духовную прелесть, названных архиереев.
Наша предантихристова эпоха сегодня изобилует многими «духовными» соблазнами и искушениями. Все они не новы, а стары, как и весь этот апостасийный мир. Дьявол хитёр и искусен во лжи. Он находит всё более изощрённые формы обмана. И потому тоже, маловерному человеку так сложно отличить зёрна от плевел, а правду от кривды. В мире появилось столько сладкоречивых лжеучителей и даже лжепророков в рясах, что голова кругом идёт. Дабы не сбиться с правильного пути и не впасть в соблазн искушения, Апостол Павел и сказал нам, что: «…сам сатана принимает вид Ангела света, а потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но конец их будет по делам их» [426].
Не случайно, в средствах массовой информации стали всё чаще появляться статьи и интервью идейного вдохновителя лазаревского раскола (РИПЦ), и одного из современных лжеучителей – Дионисия Алфёрова, что из Новгородской области. Его последние статьи и интервью посвящены проблематике объединения «осколков» РПЦЗ [427]. Эта проблематика, почему-то, начала так сильно волновать политтехнологов новоцерковных образований в лице их журналистских прислужников. В контексте всей темы объединения, автор настоятельно пытается доказать читателям об уклонении «осколков» РПЦЗ от основной Евангельской заповеди Иисуса Христа. То есть, заповеди любви. И что-де, если кто из «осколков» и вспоминает сегодня Новый Завет, то разве что - один лишь Апокалипсис, а не само Святое Евангелие.
Проще говоря, господин лжеучитель обвиняет «осколки» Зарубежной Церкви в отходе (или уклоне) от древней православной традиции и ратует за возвращение на, якобы, прежние церковные пути. Ратует за некую «качественную» и всеобъемлющую церковно-полюбовную толерантность, нагло ссылаясь на известные лишь ему одному церковно-исторические примеры и при этом, ещё и нещадно критикуя зилотов. То есть, критикуя ни что иное, как современное исповедничество и тем самым, во всё горло, воспевая соль обуянную, о которой, предостерегая, говорил Господь Бог наш Иисус Христос на горе, поучая множество народа из Галилеи, Десятиградия, Иерусалима, Иудеи и из-за Иордана.
Что интересно, столь часто упоминая, по теме, о покаянии, сам господин Дионисий Алфёров к покаянию нисколько и не стремится. Уж, казалось бы, кому каяться, как ни ему. Ан, нет. Сам он себя считает безгрешным и, похоже, чистым яко народившийся младенец. А пишет о Евангельской любви так заковыристо и мудрёно, будто никакой апостасии в мире и в помине нет. Мол, потихоньку молитесь, и нет вам никакого дела до того, что творится в этом мире.
Пусть всё остаётся, как есть, а то и ещё хуже. Главное – надо объединяться. Кто верует во Христа. Для автора неважно, как верует.
Лишь бы во Христа.
А всё остальное приложится.
Кто впервые столкнётся с «новоэкуменическими панегириками» господина Алфёрова, подумает, что писал их не православный человек (хотя бы и чисто гипотетически), а кто-нибудь из баптистов или же подобной им публики «любвеобильных и безгрешных» людей.
Вся его бесовская писанина направлена на «уловление» людских масс, колеблющихся и не знающих к кому же примкнуть - то ли, к западным протестантам, то ли, к православно-толерантным христианам [428]. В пределах бывшей Российской Империи колеблющихся людей не так много, да и обмануть их простым сладкоречием сложно. А вот за границами их предостаточно. На них и расчёт. В противном случае, он мог бы «расшириться» и в своей Новгородской области. Но у нас Дионисия Алфёрова хорошо знают. И знают не по елейным словам, а по раскольным и прочим делам [429].
Потому к нему никто и не идёт.
Не усидит он у Агафангела в тени. Нет. Долго не усидит. Я не пророчу. Однако попомните моё слово. Побудет он некоторое время в тени. А потом начнёт появляться на свет и учить уму-разуму Агафангела с братией. Вопрос лишь в том, понравится ли такая учёба одесситу со присными или же нет? И если понравится, то, надолго ли хватит у господина Пашковского человеческого терпения или «евангельской любви» к своему более учёному и мудрёному собрату из Новгородской области?
Говоря шире и более откровенно, мне не думалось, что господин Пашковский примет этого человека в сущем сане, да ещё и таким простым образом. Уж, очень много за ним тянется хитрой и властной славы. Ведь, Дионисий Алфёров и из РИПЦы-то ушёл лишь потому, что архиепископ Тихон (Пасечник) его раскусил и отстранил от фактического первенства в синоде. И теперь вот он выждал момент и потянулся к Пашковскому. А тут ещё и сам Агафангел в электронном журнале обмолвился о своём преследовании. Невольно подумаешь, а не хотят ли его сменить на более прочную и одиозную личность?
Выжидать Дионисий умеет.
И теперь сложно сказать, сам он потянулся к Пашковскому или же его к нему подтолкнули…
Боле подробней вдаваться в расколы и проблематику объединения «осколков» РПЦЗ не вижу особого смысла. Это тема для отдельной статьи или главы. На самом деле, проблема не в объединении. Проблема в другом. А именно – в экклезиологии церковных «осколков».
Говоря конкретней - экклезиологии - в её строительно-эсхатологической составляющей. Како веруешь? Вот сегодня главный вопрос. Церковь не может и не должна наполняться людьми с искажённым или далёким от православия мировоззрением.
В последующих главах меня попросили поговорить о темах, волнующих православных прихожан и требующих более детального архипастырского пояснения. Если Бог даст здоровья и времени, постараюсь высказать свою точку зрения и по ним. Темы эти широко известные и речь в них пойдёт: о февральском грехе, о причинах падения РПЦЗ и Катакомбной Церкви, о еврейском вопросе, о литературном творчестве…
А пока же поговорим о другом.
Меня часто спрашивают о количественном составе Российской Православной Церкви и Её структуре. В РосПЦ один экзархат, четыре епархии и два викариатства. Одна епархия сейчас вдовствующая. Из шести епископов, два, по состоянию здоровья и по их настоятельной просьбе, отправлены Архиерейскими Соборами РосПЦ на покой. Архиерейское служение - особое служение. Архиереям Российской Православной Церкви очень тяжело нести этот крест. Только с Божьей помощью его и несем.
Это резюме по экзархату, епархиям и епископам.
На сегодняшний день в Российской Православной Церкви тридцать пять священников и примерно, столько же православных приходов. Цифры эти меняются в большую сторону, хотя, нам и хотелось бы, чтобы они менялись намного быстрее. Но за количеством мы не гонимся. Считаем качественное духовное состояние священников и приходов определяющим и приоритетным.
Члены Церкви Христовой спасаются, как в миру, так и в монашеском чине. Монашествующих людей в РосПЦ - два десятка человек.
А сколько спасается в миру – того мне не ведомо.
Правила приёма у нас достаточно жёсткие. Условия служения и материальное обезпечение священников – очень бедное. Всё это, в совокупности, препятствует притоку в Церковь Христову соискателей лёгкого хлеба и иных случайных людей.
Мы отказались принимать в сущном сане нескольких архиереев из числа самосвятов-раскольников. Отказались от участия в сомнительных переговорах по разной церковной тематике, так как их инициация, по нашему мнению, исходила от ложных церковных структур. Нашу исповедническую позицию поддерживают некоторые из монашествующих людей на Святой горе Афон.
Они просят прислать им для окормления священномонаха от Российской Православной Церкви. Что нас не может не радовать.
Родненькие мои!
Одной из причин развала РПЦЗ явилось отсутствие православной концепции или той самой экклезиологии, о которой уже упоминалось выше. На протяжении многих десятилетий Зарубежная Церковь жила в условном инертно-православном поле, духовно ориентируясь на Поместный Собор 1917-1918 годов, своих Первоиерархов и реже, на отдельных епископов.
За все годы вынужденной иммиграции, РПЦЗ так и не смогла выработать чёткой экклезиологической платформы (программы), на которой должна была строиться спасительная жизнь Её членов в современных условиях. В лучшем случае, Зарубежной Церковью принимались Послания пастве, где Она высказывала церковную точку зрения по отдельным и давно назревшим вопросам.
Послания принимались от случая к случаю, и они не могли заменить собой православную фундаментальную экклезиологию. Не имея должного анализа произошедших церковно-исторических и апостасийных событий, а также, не имея надёжных православных ориентиров, определяющих положение Зарубежной Церкви в настоящем и в обозримом будущем, РПЦЗ обрекала себя на постепенное духовное истощение и как следствие, на принятие программы антихриста.
Учитывая печальный опыт РПЦЗ, мы прекрасно понимали всю важность выработки и принятия современного православного Документа. Документа, не только толково объясняющего причины и дьявольскую сущность современной апостасии, но и чётко указывающего на спасительное место и единственно правильное исповедническое поведение членов Церкви Христовой в предантихристову эпоху. Концептуально-православного Документа, как можно полнее, отвечающего на многие церковные и исторические вопросы, накопившиеся от февраля 1917 года и до наших окаянных дней.
С Божьей помощью, такой Документ был написан и вскоре принят Архиерейским Собором Российской Православной Церкви. Он получил название - «Российская Православная Церковь и современная предантихристова эпоха» или кратко – «Вероисповедная концепция РосПЦ». Концепция стоит на нашем Синодальном сайте «Исповедник» и её можно прочитать вот по этому электронному адресу: http://www.ispovednik.com/veroispovedanie-rospc
После принятия Собором «Вероисповедной концепции РосПЦ», мы получили множество отзывов, как положительных, так и отрицательных. О положительных отзывах, оказавшихся в значительно большем количестве, много распространяться не стану. Верующие люди от всего сердца благодарили нас за проделанную работу, подчёркивая её исключительную важность.
Отрицательных отзывов было получено гораздо меньше.
Критика Концепции акцентировалась на вопросах Поместного Собора 1917-1918 годов. На непочтении к патриарху Тихону (Белавину). На неправильном взгляде на проблему фашизма и вообще, на мировою войну 1939-1945 годов. А так же, на, якобы, слишком задиристое отношение к нынешней власти в Российской Федерации. Да, ещё нам инкриминировалась некая искупительная ересь в отношении Царя-Мученика Николая Второго, уклонение, в так называемое, царебожество и слишком уж узких рамок спасения в эпоху прихода антихриста.
Что можно сказать?
Конечно же, мы понимали разбросанность мировоззрений верующих людей, по тем или иным вопросам. И когда получили подобную критику, удивления она не вызвала. Мы не знаем свою историю. Вернее, знаем её так, как этого хотелось советской идеологии и как этого хочется теперь нынешним правителям. Поэтому и спорить по историческим, а тем паче, по политическим вопросам – безсмысленно. Раньше говорили одно, а сегодня открывается другое.
И примеров тому, несть числа.
Сегодня почти развеян миф об основном человеческом [430] виновнике убиения Царя и Его Августейшей Семьи. Теперь пишут, что решение об этом злодеянии принималось на заседании Политбюро ВКП (б). И что Ленин, а не Свердлов был его вдохновителем и организатором. И что против убиения Царя и Его Августейшей Семьи был, якобы, только один член Политбюро – Сталин.
Остальные все высказались – за убиение.
Или взять расстрел польских офицеров в Катыни. Раньше писали, что расстреляли их по приказу наркома НКВД Берии. А теперь выясняется, что решение это принималось тоже на уровне Политбюро ВКП (б). Берия, как раз, был против расстрела. А остальные члены сталинского Политбюро – за расстрел. И что расстреливали поляков не работники НКВД, а офицеры РККА.
И пойди теперь разберись, кто лжёт, а кто говорит правду.
Рамки спасения в эпоху антихриста мы Соборно расширили, признав критику, по этому вопросу, вполне обоснованной. А на остальные критические замечания ответили нашим оппонентам расширенным и гораздо более глубоким толкованием церковной позиции.
Легитимность Церковного Поместного Собора 1917-1918 годов вызывает праведное сомнение. И этому праведному сомнению есть достойные объяснения. Раньше ни один Церковный Поместный Собор не собирался без царской или же великокняжеской воли. Тем паче, не собирался в таких условиях, когда власть в стране (и не без церковной поддержки и благословения!) захватила кучка масонов, а Помазанник Божий со всей своей Августейшей Семьёй был ими брошен в узилище, при полнейшем игнорировании (а то и открытом глумлении) столь вопиющего беззакония высшей церковной властью.
Поместный Собор проходил под явным патронажем Временного масонского правительства. А теперь ответьте сами на вопрос. Может ли считаться такой Поместный Собор легитимным? Поэтому, в Концепции достаточно чётко проставлены акценты по этой тематике. Нравятся кому-то там они или не нравятся – значения не имеет. Мы предельно осторожно рассмотрели решения Поместного Собора, учитывая отношение к ним РПЦЗ и Катакомбной Церкви. И более того, мы бы их совсем не учитывали, если бы не признавали эти решения и принимавших их архиереев, легитимными, даже и с учётом нашего праведного сомнения статуса и православной подлинности Поместного Собора 1917-1918 годов.
К жизнедеятельности патриарха Тихона (Белавина) нельзя относиться однозначно восторженно. Если мы говорим и пишем об отступлении Апостолов (во главе с Первоверховным Апостолом Петром) от Христа и не видим в этом ничего из ряда вон выходящего или предрассудительного, то почему мы не можем говорить и писать об отступлениях и этого святого человека?
Почему?
Или он святее Апостолов Христовых? Или так уж совершенно безгрешен? Жизнь человеческая сложна. Она полна искушений и соблазнов. Да и святыми не рождаются. Святыми становятся. И подчас это становление протекает настолько долго, и настолько мучительно, что одному Богу в нём под силу и разобраться. Потому, вопрос святости в Концепции не рассматривался. Церковь Христова причислила патриарха Тихона к лику Своих святых и на этом вопрос исчерпан.
Симфония Церкви и Царства уже в одном своём «симфоническом» названии предопределяет гармонию, равенство, равноединство. На протяжении многих столетий в Русской Поместной Церкви это равенство или равноединство почти всегда склонялось на сторону Православных Государей, то есть на сторону Царства. Можно назвать лишь отдельные и очень короткие исторические периоды времени, когда «чаша весов» склонялась на сторону Церкви [431].
В Византийской Империи «царебожие», случалось, приводило к узакониванию ересей, таких, как арианство, иконоборчество…
В России узаконивания ересей, с Божьей помощью, удалось избежать. И даже в самые трудные для Русской Церкви времена, власть Православных Государей защищала и оберегала Её от духовного и физического истощения. В православно-монархическом государстве по-другому просто и быть не могло. На фоне нынешней упадническо-церковной современности, в Концепции и был проставлен вектор незначительнейшего уклона в сторону Православного Царства. Проставлен он не ради пресловутого «царебежества» (в чём нас сегодня и обвиняют сверхосторожные критики Концепции), а, исключительно, ради обращения и привлечения вашего внимания в спасительную царскую сторону.
Что же касается претензий к мировоззренческому взгляду на фашизм и в целом на вторую мировую войну 1939-1945 годов, то не лишне будет пояснить, что в этом взгляде мы исходили не только из наших собственных позиций, но и из позиций РПЦЗ и Катакомбной Церкви. Она у Них была точно такая же, какая отражена и в Концепции. И с ней трудно не согласиться.
Тем более, не согласиться сегодня.
Когда речь заходит о любой войне, всегда следует ставить вопросы: кто её инициировал? Кому она была выгодна? И кто в ней выиграл? И только ответив на эти вопросы, можно говорить на военную тему дальше. Вторую мировую войну (как и первую) инициировало мировое еврейство. И оно же в ней выиграло. С этими утверждениями не поспоришь. Их признают и сами еврейские «бытописатели». Если бы это было не так, то еврейский капитал сегодня не правил бы миром.
Нынешняя власть в Российской Федерации объявила себя правопреемницей СССР. Даже и не сделай этого, Российская Православная Церковь не могла бы признать её законной, так как дела этой власти, её экономическая и «духовная» составляющие, говорят сами за себя. Говорят об этой власти, как о власти инородной, антирусской и оккупационной.
Статистические данные легко подтверждают сказанное. И не только статистические. В России давно уже полным ходом идёт физическое уничтожение коренного российского населения: алкоголем, наркотиками, генно-модифицированной продукцией, многомиллионными абортами, тяжёлыми и давно забытыми болезнями; продолжается духовное растление: золотым тельцом, мирской славой, порнографией, проституцией, педофилией, содомией, средствами массовой информации…
И так далее, и тому подобное.
Счёт идёт на миллионы, а то и на десятки миллионов.
В стране процветают: бездомность, беспризорность, уголовные преступления. Поощряется интенсивное заселение исконных русских территорий выходцами из Кавказа, Средней Азии, Китая, Северной Кореи, Вьетнама, Африки и прочими иноверцами, и инородцами. Всем это известно, все это видят. И все об этом стараются умолчать. Если мы сегодня не обратимся к Богу и не покаемся, то завтра будет уже поздно. Пройдёт очень мало времени и от нас останется одна лишь память в истории и то при одной существенной оговорке - если её соизволят оставить наши враги.
Может ли Российская Православная Церковь – Церковь Христова ничего не говорить, ни к чему не призывать, оставаться полностью равнодушной и аполитичной, как этого требуют от нас наши оппоненты? Нет. Не может. Мы в Концепции сказали и призвали людей к воцерковлению и неповиновению властям. И это самое малое, что мы сегодня можем и должны сделать. И уже сделали.
Московская патриархия и иже с нею, молятся за эту власть, благословляют эту власть. И тем самым, участвуют в уничтожении и растлении русских людей. Мы молим Господа об избавлении нас от этой безбожной власти и возставлении Престола Православных Царей.
В ектеньях так и записано.
Еще молимся о страждущей стране российстей и избавлении православных людей ея от нечестивыя и безбожныя власти.
Еще молимся о возставлении престола православных царей наших, о их державе, победе, пребывании, мире, здравии, спасении, о еже поспешити Господу Богу нашему даровати нам благочестивейшего, самодержавнейшего государя и покорити под нозе его всякаго врага и супостата.
В ноябре 2009 года, суд города Кирова (Вятка), «Вероисповедную концепцию РосПЦ» признал экстремистской. В январе 2010 года она была внесена в «Федеральный список экстремистских материалов» министерства юстиции РФ с запрещением распространения.
Нечестивые власти на полпути не остановились. Они пошли дальше. Один суд над членом РосПЦ уже состоялся. А сейчас они завели дело на известного московского писателя и церковного публициста В. Г. Черкасова-Георгиевского. Владимир Георгиевич не стал дожидаться скорой расправы и с нашего благословения, от путинского суда скрылся.
Что последует от властей дальше, трудно сказать.
Вероисповедной Концепцией занялась ФСБ РФ. Организация эта известная и она шутить не любит. «Работают» в ФСБ хитро. Концепция не является неким секретным церковным документом. Она принята Архиерейским Собором РосПЦ, опубликована и под ней стоят все наши архиерейские подписи. Подпись Первоиерарха стоит первой. Однако ФСБ меня, почему-то, не трогает. Предпочитает действовать так, как и при изгоне с Щербинского прихода, то есть, через прихожан РосПЦ [432].
Теперь уже и невооружённым глазом видно, что, с приходом к официальной «церковной» власти Кирилла Гундяева, в Российской Федерации заметно активизировалось гонение на верующих людей. И не только в отношении РосПЦ, но и других. Перед грядущей унией с католичеством и в угоду сатане, Кирилл Гундяев хочет очистить духовное пространство России от Православия и остальных более чистых и светлых церковных юрисдикций, чем прокажённая Московская патриархия. Освобождается он легко и от своих оппозиционеров в самой патриархии. Есть там и такие люди. Замена недовольным монахам и священникам находится быстро. Доходят слухи, что от желающих послужить мамоне в Московской патриархии - отбоя нет.
Помилуй, Господи!
Что же будет во времена прихода антихриста, если уже и сейчас творится такое?!
«… Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить» [433] - поучает нас Первоверховный Апостол.
Слава Богу за всё!
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. О февральском грехе
«Где слово царя, там власть; и кто скажет ему: "что ты делаешь?"
(Книга Екклесиаста или Проповедника. 8:4).
Когда-то весь дом Израилев считался Церковью Божьей. И царствовал, и правил домом Израилевым Господь Бог через своих пророков. Долго правил. И не было на земле (и не будет) более правильного и благодатного правления. Шло время. Сыны Израилевы постепенно развращались и искушались от змия проклятого. И вот, однажды, попросили они пророка Божьего Самуила устроить им не прямое Божье правление, а такое же, как и у окружающих их инородцев. Захотелось Израильтянам отдавать всё своё почтение и больше славить не Бога Всевышнего, а царя человеческого.
«И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему: вот, ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими; итак поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними; как они поступали с того дня, в который Я вывел их из Египта, и до сего дня, оставляли Меня и служили иным богам, так поступают они с тобою; итак послушай голоса их; только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними» [434].
По воле Господа, помазал пророк Самуил - Саула - первого царя над Израилем. С тех пор и берёт своё начало благословенное царство земное. В истории человеческой разные потом случались цари, князья, базилевсы и императоры - язычники, отступники, гонители и мучители Церкви Христовой, еретики. Однако иных форм правления Господь уже не благословлял. Иные формы правления появились уже не от Господа, а от лукавого. Так было. Так и есть.
«Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите» [435] – горячо поучает нас Первоверховный Апостол Пётр. «Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте» [436] - вторит ему Первоверховный Апостол Павел. Апостолы глаголют так, ибо и Сын Человеческий отдал Богу Божие, а кесарю кесарево. Лишь с началом правления Православных Государей Церковь Христова обрела на земле защиту и попечение. Церковная история насыщена многими событиями и примерами. Как и всякая земная жизнь, она полна праведными и греховными моментами.
И несть им числа.
По-разному я относился к царям и монархическому правлению. То более трепетней, то прохладней. Но никогда не оставался равнодушным. Крестьяне – люди более устойчивые в Истине. И одной лишь голой пропагандой их не заманишь в ловушку. Для этого нужны очень веские и правдоподобные аргументы. Да и память, из рода в род, не выбьешь из головы. Поэтому отношение к Царю-батюшке и к Православной Российской Империи долго ещё оставались почтительными.
Хотя и далеко не у всех.
В полной мере я осознал благодатность и значимость православно-монархической государственности только с приходом в Церковь. И не в самые первые годы. По-другому и быть не могло. Так как, по-разному относились к православно-монархической государственности мои духовные поводыри: и отец Валерий Рожнов, и игумен Григорий (Кренцив), и епископ Виктор (Пивоваров), и другие знакомые священники Зарубежной Церкви. Попадались среди них и рьяные противники царской власти.
Что удивительно, такие священники, как правило, встречались из катакомбной среды.
Хватало на эту тему и споров. Я больше слушал. А принимать участие в них, начал значительно позднее – когда сформировалось православно-монархическое мировоззрение. Очень часто такие споры и диспуты скатывались на личности. Люди не старались охватить тему в целом и посмотреть на неё сверху, и общё. Смотрели, всё больше, не цельно, а фрагментарно.
Роль личности в истории хорошо изучена и она известна, но по этой теме она оставалась вторичной. Спорщики не хотели понять, что православно-монархическая государственность (какие бы государи ни были) для Церкви является наиблагоприятнейшим и оградительнейшим фактором, который, ни в коем случае, нельзя игнорировать и тем паче, терять.
И что она - единственная благословенная форма государственного правления. При потере православно-монархической государственности Церковь Христова обрекает себя на духовное и физическое истощение. Что мы сегодня воочию и наблюдаем.
Во времена Святоотеческой Руси о смене православно-монархической государственности никто и никогда не заикался. Все предводители бунтовщиков помышляли не о замене формы государственного управления, а, о замене, того или иного, Государя. При этом, часто, выдвигая себя на их законное место. Вспомните время самозванцев, лжецарей, Пугачёва…
Сатанинское вольнодумство о замене православно-монархической государственности пошло от масонства. А яснее говоря, от Кагала. В девятнадцатом веке только Русская Православная Церковь и Православная Российская Империя стояли у Кагала на пути к мировому господству. Прекрасно понимая это, Кагал и начал вести подрывную деятельность против Церкви и Царства. И вскоре, по примеру Денницы, заразил вольнодумством аристократию, а затем уже и иные сословия Российской Империи.
Опасность распространения ересей жидовства и иудео-масонства никогда не оставалась под спудом. С Божьей помощью, её предвидели и обличали святые: Иосиф Волоцкий, Серафим Саровский, Оптинские старцы и некоторые другие великие Божьи угодники, и подвижники земли Русской. Осознавали всю пагубность распространения ересей жидовства и иудео-масонства, и некоторые наши Государи: Иоанн Грозный, Пётр Первый, Елизавета Петровна, Николай Первый…
Справившись с монархической и христианско-протестантской Европой, и в тоже время, обретя себе надёжнейших партнёров в лице многомиллионного польского и иного еврейства [437], после кончины Императора Николая Первого, Кагал приступил к широкомасштабному наступлению на умы и души православных подданных Российской Империи. Преследуя две цели – уничтожение Православия и монархической государственности, и используя весь свой сатанинский арсенал лжи и пропаганды, Кагал быстро добился желаемого успеха. За полвека времени, он практически развратил все слои Православной Российской Империи, подготовил и увлёк их в пучину безбожия, антимонархизма и социальных революций.
Роль масонства и мирового еврейства в падении Российской Империи огромна, и недооценивать её нельзя. По-иному слуги дьявола ни жить, ни действовать не могли. Вопрос в другом, почему русские православные люди допустили свершиться беззаконию, участвуя в нём или же пассивно наблюдая за ним со стороны? И почему сопротивление беззаконию оказалось столь слабым и неэффективным? Виноваты ли православные русские люди, что допустили в своём доме свершиться подобному?
Сегодня пытаются всю вину свалить на один лишь Кагал, а православных русских людей оставить в пределах, едва ли не святости. Когда мы говорим о февральском грехе русского народа, нас стараются обвинить в кособочности взгляда на историю и даже пробуют приписать нам некую прожидовскую позицию. Есть и другая точка зрения, когда февральский грех предают забвению, списывая его за давностью лет на свалку истории и объявляя себя не причастными к нему, и безгрешными.
Видно так проще жить.
Я тоже не принимал участие в первородном грехе, однако он на мне есть. Адам и Ева согрешили в раю, и не покаялись. Господь наказал всех. И Адама, и Еву, и змия. Кто виноват змий, Адам, или Ева? Очевидно, что виноваты все. И что Господь всех наказал правильно. Разве не так? Тогда почему мы сваливаем вину, свершившегося февральского беззакония, только на одного змия, то есть на Кагал, а себя считаем безгрешными?
Можете вы себе представить такую картину, когда в вашей квартире, или в вашем доме, ворвавшийся и беснующийся человек, на ваших же глазах, насилует вашу мать. Потом, этот же человек, полноправно хозяйствует в вашем доме, продолжая вопиющие беззакония, а вы, ровным счётом, так ничего и не сделав, лишь всё время мямлите всем о своей непричастности и невиновности.
Нечто подобное произошло и с Православной Российской Империей, и её православными подданными. Пожалуй, даже ещё в худшем качестве.
Много произведено исследований, много написано книг и статей. Найти можно всё, что угодно и на любой вкус. Имелось бы только желание.
Вне всякого сомнения, грехом февраля заражены все сословия Российской Империи. И до тех пор, пока февральский грех нераскаян – он лежит и на всех их потомках – на всех нас. Кто виноват в первую очередь или же, кто виноват больше других – нет смысла рассматривать. Духовенство, высшая церковная иерархия - не справились со своей задачей борьбы с дьявольскими силами. Более того, многие священники и епископы добровольно перешли на сторону мракобесия, увлекая за собой и толпы верующих русских людей.
Приведу лишь некоторые примеры.
«В настоящую историческую минуту не могу не высказать несколько слов, быть может и нескладных, но идущих от сердца. Господин обер-прокурор говорит о свободе Церкви. Какой прекрасный дар! Свобода принесена с неба Спасителем нашим и Господом: «если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Ин. 8, 36); она выстрадана апостолами, куплена кровью мучеников. И великий дар свободы стоит испытаний и страданий. Двести лет Православная Церковь пребывала в рабстве. Теперь даруется ей свобода. Боже, какой простор! Но вот птица, долго томившаяся в клетке, когда ее откроют, со страхом смотрит на необъятное пространство; она неуверенна в своих силах и в раздумье садится около порога дверец. Так чувствуем себя в настоящий момент и мы, когда революция дала нам свободу от цезарепапизма ...
Великий дар свободы куплен и приобретается всегда ценой испытаний. Утверди, Господи, Церковь Твою!» [438].
«Теперь второй вопрос: почему не молимся за царей? Потому, что царя у нас теперь нет и нет потому, что оба царя от управления Россией отказались сами, а насильно их невозможно именовать тем наименованием, которое они с себя сложили. Если бы царь наш не отказался от власти и хотя бы томился в темнице, то я бы увещевал стоять за него и умирать за него, но теперь ради послушания ему и его брату мы уже не можем возносить имя его, как Всероссийского Государя. От вас зависит, если желаете, устроить снова царскую власть в России, но законным порядком, чрез разумные выборы представителей своих в Учредительное Собрание. А какой это будет законный порядок выборов, о том решат, уже не мы духовные, а Временное Правительство» [439].
«В настоящую переходную пору, прежде всего, надлежит нам иметь полное искреннее подчинение Временному полномочному Правительству; к тому же всемерно призывать и все население. Только так и может быть устроен желанный порядок в Отечестве на основаниях объявленной гражданской свободы. Это, отцы и братие, и поставьте за свою первую и священную заботу.
Наряду с этим предстоит нам готовиться к Учредительному собранию, на котором будет вырешена форма управления Российским Государством и основные для того законы. Предстоит дело великой и исключительной важности. Надо добиться, чтобы все мы без различия звания и состояния граждане Великого нашего Отечества отнеслись к этому делу с полным сознанием и пониманием дела. Ошибка или неосновательность в этом повлечет к тяжелым испытаниям и потрясениям нашего Отечества. Посему все нужно сделать, чтобы Бог помог безошибочно и осмотрительно вырешить на Учредительном Собрании поставленные для него задачи.
... От духовенства сам народ будет ждать разъяснения совершившихся событий в нашем государстве, а равно и задач предстоящего Учредительного Собрания с решением на нем об образе правления Государством Российским. И выясняйте все это, сами все, обдумавши и в совести своей, поставляя себя пред Богом, да перед судьбами Родины» [440].
«Я буду очень краток. Я не желаю стеснять ваше действование. Я призываю Вас только к работе успокоения страстей, «крайностей», - и к работе - работе на пользу народа. Я полагаю, что в России должна быть РЕСПУБЛИКА но не демократическая, а общая, - вообще РЕСПУБЛИКА; в управлении участвуют ВСЕ классы, а не одни «пролетарии». Английский образ правления, по-моему, наилучший (конституционная монархия), но он не для нас, не для России, в которой Монархи не завоевали себе доверия. Кто бы ни был Монарх - Михаил Александрович или Николай Николаевич, - он окружит себя родными и близкими, - опять пойдет «свое», - камарилья. Это - мое мнение. Работайте «за совесть». Бойтесь анархии, диктатуры пролетариата, резни, грабежа, мести и т. п.» [441].
Таких примеров великое множество.
И что самое постыдное и обидное, подавляющее большинство духовенства, ещё совсем недавно, говорило противоположное – говорило слащавое и хвалебное Императору, Императорской Фамилии, православно-монархической государственности.
«А у нас все явно, все начистоту, все прямо. Ничего не обещаем, ничем не подкупаем. Любишь Бога и Церковь, любишь Царя, любишь Народ наш Русский, первенствующий по праву и правде в своем царстве, что бы там ни говорили иноверцы и инородцы, - тогда иди к нам... теперь пред каждым из нас стоит повеление Господа, как некогда Павлу: Говори и не умолкай!.. Царь – это единственная для нас Верховная власть. Никакой кустодии, никакой опеки над Ним мы никогда не признаем... Никакое решение большинства толпы для нас не убедительно. Мы с Богом: значит, всегда в большинстве... Верною верою, вольною волею и верною любовью мы преданы Богу, Царю и Русскому Народу. Не за корысть, не за страх, а любовь и за совесть мы работаем, мы сблизились и соединились вместе этим Союзом единомыслия и Патриотизма.
Не разобьет ничто нашей верной дружины! Сумеем мы и слово молвить в свою защиту; сумеем мы и постоять за правду; сумеем и умереть за наши религиозно-патриотические убеждения. Горе нас сплотит, гроза нас очистит, а смерти мы не боимся... Этого не знают и не познают враги наши; этого высокого, сладостного чувства, сладостных надежд они не испытают в сердце... Лучше нас они знают, что мы, русские люди, живы, и с нами надо считаться! Еще немного, - и ложь их обнаружится пред всеми ... Еще немного, и правда наша, вековая Русская Правда, засияет ярче солнца. Знамя свое мы донесем до этого дня. И на знамени том начертано: Бог, Церковь, Россия; а в России: Православие, Царь и Русский Народ. Не вырвут этого знамени враги, не затопчут, не уничтожат: ибо нельзя уничтожить целый Народ» [442].
«Отрекшийся от престола бывший наш государь передал законным порядком власть своему брату. В свою очередь, отрекшийся от власти до окончательного решения Учредительного Собрания брат государя законным же порядком передал власть Временному Правительству, и тому правительству постоянному, которое будет дано России Учредительным Собранием. Итак, мы теперь имеем вполне законное Временное Правительство, которое является властью предержащею, как называет её слово Божие. Этой власти, ныне Единой, Верховной и Всероссийской, мы обязаны повиноваться по долгу религиозной совести, обязаны за неё молиться, обязаны повиноваться и властям местным, от нея поставленным. После отречения бывшаго государя и его брата, и после их указаний на Временное Правительство, как законное, в таком повиновении не только нет никакой измены бывшей присяге, но заключается наш прямой долг.
… Самые слова и наставления о царе, какие мы слышим в Слове Божием, теперь уже надобно относить к власти предержащей, к существующему в наличии законному правительству.
… Церковь и ея служители в своём церковно-пастырском служении уже более не привлекаются к участию в политическом строе нашей страны! И слава Богу! По-видимому, нас ожидает полное отделение Церкви и государства. Примем и это с безропотною и благою покорностью, если такого рода закон дан будет Учредительным Собранием» [443].
Эти два, взаимоисключающих по духу и совести, текстовых отрывка из выступлений протоиерея Иоанна Восторгова [444] нагляднейшим образом показывают уровень человеческого падения; греха клятвопреступления и отречения от симфонии Церкви и Царства, от православно-монархической государственности, от Православного Императора…
Как ни прискорбно об этом писать, но ни один из иерархов Русской Церкви не прислушался к пророческим словам Святого Иоанна Кронштадтского - «Царь у нас праведной и благочестивой жизни. Богом послан ему тяжелый крест страданий, как Своему избраннику и любимому чаду, как сказано тайновидцем судеб Божиих: «Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю» (Откр. 3:19). Если не будет покаяния у русского народа, конец мира близок. Бог отнимет у него благочестивого царя и пошлет бич в лице нечестивых, жестоких, самозваных правителей, которые зальют всю землю кровью и слезами» [445] – никто из иерархов Русской Церкви не последовал, в соответствии своему высокому духовному сану, православным образом.
Подавляющее большинство русских архиереев поверило сатане и поспешило примкнуть к нему. Почему так произошло? И почему не нашлось в России архиерея, подобного Святому патриарху Ермогену, могущего бросить праведный клич ко спасению Царя и Православного Самодержавного Отечества?
Сатане поверила и треть Ангелов. Чего уж тут спрашивать с земнородных и немощных людей. Архиереи, ведь, тоже люди. И далеко не все из них праведной, и святой жизни. Февраль 1917 года, как раз и показал, кто из них, кто. И чего он стоит в этом мире.
Впрочем, показал не только им одним.
Показал всем.
Один из выдающихся русских духовных писателей, бывший товарищ Обер-прокурора Святейшего Синода князь Н. Д. Жевахов в своей статье «Причины гибели России» написал по этому поводу следующее. Привожу часть текста дословно, потому что православней не скажешь и не напишешь.
«…Поразительнее всего то, что в этот момент разрушения православной русской государственности, когда руками безумцев насильственно изгонялась благодать Божия из России, хранительница этой благодати Православная Церковь, в лице своих виднейших представителей, молчала [446].
Она не отважилась остановить злодейскую руку насильников, грозя им проклятьем и извержением из своего лона, а молча глядела на то, как заносился злодейский меч над священною Главою Помазанника Божия и над Россией, молча глядит и сейчас на тех, кто продолжает делать свое антихристово дело, числясь православным христианином. Чем же были вызваны безумные требования отречения Царя от Престола? Разумею не требования мироправителей - жидов, хорошо понимавших природу и задачи Самодержавия и видевших в Русском Царе оплот мировой христианской культуры и самого опасного врага в борьбе с христианством, а требования русских людей, отражавшие абсолютное непонимание природы Русского Самодержавия и Богопомазанничества [447].
«Власть, по самой природе своей, должна быть железной, иначе она не власть, а источник произвола и беззакония, а Царь слишком добр и не умел пользоваться Своею властью» - говорила толпа. Да, власть должна быть железною, она должна быть неумолимою и не доступною движению сердца. Ее сфера должна чуждаться гибкости и мягкости. Власть должна быть бездушной, как бездушен закон. Гибкость закона есть беззаконие, слабость власти есть безвластие.
Бездушной, строгой, неумолимой, внушающей только трепет и страх, должна быть власть.
Но не таковою должна быть власть Царская.
Царь - выше Закона. Царь - Помазанник Божий и как таковой воплощает Собою ОБРАЗ БОЖИЙ НА ЗЕМЛЕ. А Бог - Любовь. Царь и только Царь является источником милостей, любви и всепрощения. Он и только Он Один пользуется правом, Ему Одному Богом данным, одухотворять бездушный закон, склоняя его перед требованиями Своей Самодержавной воли, растворяя его своим милосердием. И потому в сфере действия закона только один Царь имеет право быть добрым, миловать и прощать.
Все же прочие носители власти, облекаемые ею Царем, не имеют этого права, а если незаконно им пользуются, гонясь за личной популярностью, то они воры, предвосхищающие прерогативы Царской власти. «Доброта» Царя есть Его долг, Его слава, Его величие. Это ореол Его Божественного помазанничества, это отражение лучей небесной славы Всеблагого Творца…» [448].
И дальше князь Н. Д. Жевахов пишет уже не только высоко духовно и православно, но и Богопромыслительно.
«Сколько же недомыслия нужно было иметь для того, чтобы отождествлять Царя с заурядными носителями власти, чтобы обвинять Царя в «доброте», т.е. в том, что составляло Его долг и сущность Его Царского служения? И кажется мне, что ни один русский Царь не понимал Своей Царской миссии столь глубоко, как понимал ее благодатный Государь Николай Александрович. Здесь - источник Его мистицизма, точнее Его веры, Его общения с Божими людьми, Его поисков духовной опоры, какой он не находил вовне, со стороны тех, кто не понимал, кем должен быть Русский Царь и осуждал Его.
Но здесь же и источник той злой травли, какой подвергался Государь, преследуемый жидо-масонами и их прислужниками именно за Свою «доброту», в которой они видели не слабость и дряблость, а выражение самого яркого, самого верного и точного образа того, кем должен быть Русский Царь, понимающий сущность Своего Царского служения и Своей Божественной миссии Помазанника Божьего. В этом не понимании русскими людьми природы Самодержавия и сущности Царского служения и выразилось главное преступление русской мысли, попавшей в жидо-масонские сети, и настолько глубоко проникшее в ее толщу, что не изжито даже до сих пор, спустя 10 лет [449], прошедших с момента гибели России. Еще и сейчас, по мнению одних, России нужен Диктатор, способный заливать Русскую Землю кровью своих подданных, по мнению других, - конституционный монарх, т.е. Царь, связанный ответственностью не перед Богом, а перед теми незримыми единицами, которые творят волю пославшего их Незримого Правительства, выдавая ее за «волю народа».
Нет, не безответственные монархи, как послушные орудия в руках жидо-масонов, и не железные Диктаторы, облеченные Царскою властью, нужны России, а нужны были ей и будут нужны железные исполнители закона, верные и честные слуги Царя, Которого нужно сперва вымолить у Бога.
Русский же Православный Царь, осуществляя Свою Божественную миссию Помазанника Божия, не может быть Диктатором, ибо Его священная миссия выходит далеко за пределы прав и обязанностей заурядного носителя власти, хотя бы и облеченного ее наивысшими прерогативами. Другое преступление русского народа выразилось в непонимании самой России и ее задач. Царь и Россия - неотделимы друг от друга. Нет Царя - нет и России. Не будет Царя - не будет и России, а русское государство неизбежно сойдет с пути, предуказанного Богом. И это понятно, ибо то, что Бог вручает своему Помазаннику, того не может вручить толпе.
Задачи Русского Царя, Промыслом Божиим на Него возложенные, выходят далеко за пределы задач верховного носителя государственной власти. Это - не глава государства, избираемый народом и угождающий народу, которым назначен и от которого зависит. Русский Царь помазан на царство Богом и предназначается быть Образом Божиим на земле: Его дело - творить дела Божие, быть выразителем воли Божией, носителем и хранителем общехристианского идеала земной жизни.
Соответственно сему и задачи Русского Царя, выходя далеко за пределы России, обнимали собою весь мир. Русский Царь устанавливал мировое равновесие в отношениях между народами обоих полушарий. Он был защитником слабых и угнетенных, объединял Своим верховным авторитетом разноплеменные народы, стоял на страже христианской цивилизации и культуры, был тем «держащим», на которого указывал Апостол Павел в своем 2-м послании в Фессалоникойцам, говоря - «тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят из среды удерживающий теперь» (гл. 2, 7-8).
Вот в чем заключалась миссия Русского Православного Самодержавного Царя! Сколько же недомыслия нужно было иметь для того, чтобы допускать, что эта миссия, заключающаяся в борьбе с коллективным антихристом и в охране христианского идеала на земле, могла быть выполнена с помощью слуг антихристовых, скрывающихся под маскою всякого рода коллективов, от парламентаризма до профессиональных союзов, преследующих как раз обратные цели!? А между тем такое недомыслие со стороны одних и преступность со стороны других лежали в основе всех тех нелепых требований, какие предъявлялись к Царю и Его правительству с единственной целью - низвести Царя с той высоты, на какую Он был поставлен Богом, урезать Его самодержавные права и вырвать из рук Царя то дело, какое Господь возложил на Своего Помазанника.
Дело же это - не только благо России, но и мир всего мира. В этих посягательствах на самодержавие Русского Православного Царя и сказался тот великий грех русских людей, в результате которого Господь отнял от России Свою благодать, и Россия погибла.
И пока русские люди не уразумеют миссии Самодержавного Русского Царя, пока не сознают, в чём заключались и должны заключаться задачи Самодержавия и Богопомазанничества и не дадут обета Богу помогать Царю в осуществлении этих задач, до тех пор благодать Божия не вернётся в Россию, до тех пор не будет и мира на земле» [450].
Эти духоносные слова князя Н. Д. Жевахова сегодня обязаны знать и помнить все православные русские люди, желающие себе и России спасения, и благоденствия. Утверждение, будто Церковь Христова так и не выработала догматического учения о Православной Самодержавной Царской власти - не выдерживает критики.
В этой связи, согласиться можно лишь с тем, что учение о Царской власти не собрано воедино и не представлено наглядным и всеобъемлющим образом. Когда мы долго и упорно искали творения выдающихся православных иерархов, и Святых Отцов Церкви, то нашли множество замечательных вероучительных документов, в полной мере, опровергающих всякие утверждения об отсутствии догматического вероучения о Православной Самодержавной Царской власти.
А что это вероучение не собрано воедино или даже не записано в Символе Вере, так кто же думал, что люди дойдут до такого безумия, когда вместо благословенного царского правления потребуют себе сатанинскую жидовскую власть.
Церковь Христова никогда не жила без царей, пусть и разных. А теперь вот приходиться жить. И как жить, мы это видим и ощущаем на собственном печальном опыте. Лично для меня не столь и существенно – отрекался ли Государь от Престола или не отрекался? Или же отреклись от Царя только подданные Российской Империи? Заставили ли Государя отречься от Престола насильно или же нет? Все эти вопросы вторичны и не имеют столь важного, и определяющего значения.
Важен факт отступления от Бога и Царя. Важен факт итогов бесовской революции – восхитивших власть и поправших православно-монархическую государственность, затопив Россию в крови и на долгие годы насадив в ней свою сатанинскую идеологию.
Девятьсот одиннадцать лет Святая Русь благоденствовала под скипетрами Православных Государей и более тысячи лет жила в пределах благословенного царства. Семьдесят четыре года Она кровоточила при Совдепии и видимо, ещё меньше проживёт при нынешней жидовской власти. А, что же потом? А потом нас ожидает наш с вами выбор. Или Православное Царство (по покаянию и как милость Божья), или же история Апокалипсиса, со всеми её ужасами и чудесами, и концом этого света.
Никакого другого выбора нам не дано.
Дворянство и духовенство Святой Руси, во все времена, играли решающую роль в нашей истории. Эти два сословия и находились на страже, и у кормила русской православно-монархической государственности. Находились, скажем так, в преимущественном большинстве, подпитываясь и укрепляясь, и из других, низших, сословий Святой Руси.
На их духовном разложении и сконцентрировал Кагал все свои бесовские силы.
И начиная уже с блистательного века Екатерины Второй, стали проявляться и выползать наружу вольнодумства иного, масонского порядка. Об этом нам убедительно говорят и известные фамилии: Радищева, Новикова, Пугачёва. На это же указывают и факты оного беснования в сферах высшего титулованного дворянства Российской Империи, и даже в Царской Императорской Фамилии.
Печальным греховным итогом отпадения от Бога и Царя, явилось убиение новоиспечёнными масонами Императора Павла Первого и поднятое ими восстание на Сенатской площади в Санкт-Петербурге 14 декабря 1825 года.
Масонство проникло и в высшее духовенство. По расследованиям масонских преступлений декабря 1825 года, членами различных масонских лож числились 24 православных священнослужителя. В том числе и такие известные духовные лица, как епископ Савва (Крылов-Платонов) Ярославский, священники Алексей Малов, Фёдор Левицкий и многие другие. «Венчал» всю эту «духовную» бесовскую коалицию Обер-прокурор Священного Синода - князь А. Н. Голицын.
Потерпев временное поражение, масонство переменило тактику и от полуоткрытых, и интенсивных действий, перешло к более закрытому и постепенному влиянию на умы, и души благородного и духовного сословий. А с развитием промышленности и усилением еврейского капитала, на умы и души, и всего остального населения Российской Империи.
При традиционной инертности русского чиновничества, рассказывать небылицы о, каком бы то ни было, цезарепапизме, чиновничьем гнёте, произволе и тому подобной чепухе – совершенно безсмысленно, если не глупо. Ни правящим архиереям, ни, тем паче, настоятелям храмов и монастырей никто не мешал заниматься служением Богу и окормлением многочисленной православной паствы. Наоборот, состоя на полном казённом попечении и пользуясь высокой сословной поддержкой православно-монархического государства, русское духовенство лишь только выигрывало.
И тем не менее, недовольные своим положением всегда находились в среде русского духовенства. Не уменьшались они и среди титулованного дворянства, и чиновничьего аппарата. Истоки недовольства исходили из духовных семинарий и академий, и из светских учебных учреждений Православной Российской Империи. То есть, от масонского профессорско-преподавательского корпуса учебных заведений разного уровня. Школа на всю жизнь оставляет след в душе человека. И часто в жизни случается так, что какова школа – таков и по духу человек. Поэтому, стоит ли удивляться архиерейской либеральности и антимонархичности к концу девятнадцатого и к началу двадцатого века.
Об особой Богопромыслительной миссии Самодержавного Русского Царя не хотели ни знать, ни слышать не только простые русские люди, но и члены Священного Синода. Алчность, зависть, неправославомыслие поразили души и сердца многих архиереев.
Царь прекрасно об этом знал, потому и предложил себя в Патриархи. Однако получил всеобщий архиерейский отказ. Почему? Да потому, что каждый из них метил себя на высокое и почётное патриаршее место. На благое предложение Императора не отозвался ни один архиерей.
Все дружно промолчали.
Горделивые обиды и капризные недовольства на Императора, Дом Романовых, Обер-прокурора, государственных чиновников и в целом, на православно-монархическую государственность (!) проявлялись епископами повсеместно. А у некоторых из них слыть либеральным и явным (или тайным) евреепочитателем даже вошло в моду. Отсюда и столь многочисленные революционные архиерейские высказывания, приведённые (и не приведённые) выше. Пять лет тяжелейшего времени понадобилось одному из самых маститых и выдающихся русских архиереев двадцатого столетия – митрополиту Антонию (Храповицкому) - на осознание всей греховности архипастырского падения и архипастырской слепоты. В одном из своих писем графу В. В. Мусину-Пушкину митрополит Антоний (Храповицкий) написал об этом довольно ясно и откровенно.
«…Церковь не может стать на точку зрения «завоевания революции»; не может одобрить низвержение законного Царя, миропомазанного; она должна осудить февральскую революцию 1917 года, а если мы в чём-либо поддались политическому принципу в ущерб церковному, то разве в том, что не высказали от имени Церкви самого резкого осуждения революции господской февральской, которая была революцией столько же антимонархической, сколько антирелигиозной…» [451].
Остальные русские архиереи так и не поняли, и не осознали содеянного ими греха. Почему с духовных людей – архиереев - особый спрос? Спросите вы. Да потому, что они, как архипастыри Божьи, на то и поставлены Богом, чтобы оберегать и остерегать свою паству от ересей, бесовских искушений, наваждений или козлищ. Кому же, как не Поместной Русской Церкви следовало подать свой авторитетнейший голос в защиту Православного Самодержавия и тем самым, приостановить, а то и остановить впадение в революционное, и всеобщее мракобесие. Поместная Русская Церковь этого не сделала и в результате, Её клир и Её паства, получили от Бога возможность иного спасения, пришедшегося далеко не каждому человеку «по вкусу» и «по плечу». А сама Россия (как справедливо подметил князь Н. Д. Жевахов) на многие годы лишилась Божьей благодати. По крайней мере, лишилась той Божьей благодати, которая имелась у Царской России.
Конечно же, хватало и разного рода перекосов в сторону светских властей. Как же без них. Случались досадные оплошности и несправедливости. Чего стоит только одно упоминание о православном житии известного монаха Авеля. Из-за излишней чиновничье-архиерейской усердности монаху-пророку Авелю пришлось просидеть в монастырских узилищах почти всю свою жизнь.
В последнее время, мы много пишем и ещё больше говорим о неразрывности священства и паствы, о церковном единстве. И пишем, и говорим - верно. Только нельзя забывать и об особом предназначении Церкви. Ясное осознание устремления Корабля Спасения от мира земного к миру Горнему – залог правильного окормления паствы. Обмирщение высшего духовенства – смерти подобно. При обмирщении теряется спасительная путеводная нить. И духовенство тогда начинает идти уже не по Божьему, а по мирскому пути. Идти по пути политических и иных страстей. То есть, не вести свою паству к Богу Всевышнему и спасению, а идти в погибельную пучину, следом за паствой.
Нечто подобное произошло и в конце девятнадцатого, начале двадцатого века. Произошло не само собой, а под влиянием той губительной пропаганды и агитации, распространяемой врагами Православия и Православного Самодержавия, начиная с духовных учебных заведений Российской Империи. Православное мировоззрение из будущих епископов и священников умело, и довольно-таки легко вымывалось, а на смену ему заступали уже демократические и либерально-бесовские взгляды. Те самые взгляды, которые потом и проявились во всей своей «красе» в феврале 1917 года, когда высшая церковная власть Поместной Русской Церкви оказалась не только не в состоянии отличить Евангельские зёрна от плевел, но и в полном составе, перешла на сторону Февральской жидо-масонской революции.
Не прозрели русские архиереи и на так называемом, Всероссийском Поместном Соборе 1917-1918 годов. В силу указанных выше причин, они и не могли прозреть. На Соборе все архиереи дружно выступили рьяными защитниками Февральской революции. А сам Поместный Собор превратился в надёжный оплот масонского Временного правительства. Он узаконил и церковно оправдал совершенный в Феврале грех, подвел под Февральскую революцию псевдоканоническую базу и на десятилетия вперед предопределил февралистское направление церковной жизни. Едва ли ни единственным положительным Соборным деянием можно считать лишь подтверждение Анафемы на советскую власть, произнесённую ранее патриархом Тихоном. На Соборе высказываниям в защиту арестованного Императора и Его Семьи не придавали должного значения, а порой эти высказывания и пресеклись.
Отрадно лишь то, что такие выступления, всё же, случались.
Писали Поместному Собору и простые люди. В своих письмах они призывали вернуться к благословенному царскому правлению и надеялись, что высшая церковная власть скажет, наконец, им долгожданную правду и призовёт своих пасомых к покаянию, и возвращению на православное поле.
«…Православный русский народ уверен, что Святейший Собор в интересах Святой матери нашей церкви, отечества и Батюшки Царя, самозванцев и всех изменников, поругавшихся над присягой, предаст анафеме и проклятию с их сатанинской идеей революции. И Святейший Собор укажет своей пастве, кто должен взять кормило правления в великом Государстве. Надо полагать тот, кто находится в заточении, а если он не пожелает царствовать над нами изменниками, подлежащими притче Господней о человеке высокого рода, то укажет, кому принять правление Государством; так выходит по здравому смыслу.
Не простая же комедия совершаемый акт Священного Коронования и помазания Святым миром царей наших в Успенском Соборе (Московского Кремля), принимавших от Бога власть управлять народом и Тому Единому отдавать ответ, но никак не конституции или какому-то парламенту собравшихся не совсем чистоплотных людей, способных только для устройства крамольных художеств одержимых похотью властолюбия...
Всё вышеизложенное, что здесь написал, не моё только личное сочинение, но голос православно-русского народа, стомиллионной деревенской России, в среде которого нахожусь я» [452].
Это отрывок из письма прихожанина Семендяевского Богоявленского прихода Тверской епархии М. Е. Никонова своему архиерею и Всероссийскому Поместному Собору.
Священник кафедрального собора города Уфы Владимир Востоков, член Поместного Собора от Уфимской епархии, высказался на Соборе ещё более определённо, если не промыслительно.
«…Только после всенародного искреннего покаяния умирится и возродится страна, и Бог возвысит нам Свою милость и благодать. А если мы будем только анафематствовать, без покаяния, без объявления правды народу, то нам скажут не без основания: «И вы повинны в том, что привело страну к преступлениям, за которые ныне раздаётся анафема. Вы своим малодушием попустительствовали развиваться злу и медлили называть факты и явления государственной жизни их настоящими именами».
... Пастыри Церкви, защитите душу народную! И если мы не скажем народу полной правды, не призовём его сейчас же к всенародному покаянию в определённых грехах, мы выйдем тогда из этой палаты соборной изменниками и предателями Церкви и Родины. В том, что сейчас говорю, я так непоколебимо убеждён, что не задумаюсь повторить то же, если бы мне сейчас и умереть предстояло. Необходимо возродить в умах людей идею чистой, центральной власти, затуманенную всероссийским обманом.
Мы свергли царя и подчинились евреям!
Единственное спасение русского народа — православный русский мудрый царь. Только через избрание православного, мудрого, русского царя можно поставить Россию на путь добрый, исторический и восстановить добрый порядок. Пока же у нас не будет православно-мудрого царя, не будет у нас и порядка, а будет литься народная кровь, и центробежные силы будут разделять единый народ на враждующие кучки, пока исторический поезд наш совершенно не разобьётся или пока народы чужие не поработят нас как толпу, не способную к самостоятельной государственной жизни.
... Все мы должны объединиться в одну христианскую семью под знаменем Святого Животворящего Креста и под руководством Святейшего Патриарха сказать, что социализм, призывающий будто бы к братству, есть явно антихристианское злое явление, что русский народ ныне стал игралищем еврейско-масонских организаций, за которыми виден уже антихрист в виде интернационального царя, что, играя фальшивою свободою, он куёт себе еврейско-масонское рабство. Если мы это скажем честно и открыто, то я не знаю, что будет с нами, но знаю, что будет тогда жива Россия!» [453].
К сожалению, «объединиться в одну христианскую семью» так и не получилось. Выступление отца В. Востокова вызвало на Соборе оживлённую дискуссию и не более того. А еврейско-масонское рабство, о котором отец Владимир так убедительно и горячо говорил в своей пламенной речи, русский народ выковал прочное. И не приведи Господь, чтобы оно оказалось вечное и безвозвратное.
А жива ли Россия?
До тех пор пока жива Русская Поместная Православная Церковь – жива и Россия! Хотелось бы кому этого или нет, но это так и есть!
Нас сегодня призывают молчать о февральском грехе русского народа, призывают молчать о февральском грехе русского духовенства. Или упрашивают, если, уж и говорить о февральском грехе, то говорить о нём искажённо, то есть говорить заведомо лживо. Призывают и упрашивают не только страха ради иудейска, но и по другим, якобы, церковным причинам.
Российская Православная Церковь не молчала, не молчит и молчать не собирается. С Божьей помощью, Церковь сказала долгожданную Правду. И если кто-то Правду Божью понимает по-другому, и не согласен с Соборным мнением Церкви, то это его личная проблема [454] и трагедия. Российская Православная Церковь не подстраивалась под, чьи бы то ни было, современные и «непререкаемые» авторитеты. Различного рода подстройщиков и соглашателей предостаточно и без нас.
Стыдно смотреть на их прошлые и настоящие иудинские дела.
Как ни прискорбно и ни печально это осознавать, но в своих предположениях священник Владимир Востоков оказался пророчески прав. И правота эта столь понятна и очевидна, что не требует спорных дискуссий или дополнительных пояснений.
Казалось бы, всё в этом вопросе ясно. И можно ставить точку. Ан, нет. То, с той, то, с другой стороны, находятся и объявляются активные «проповедники» в рясах, пытающиеся всю вину февраля свалить на жидо-масонов, Императорскую Фамилию или даже самого Государя Императора. Свалить на кого угодно, но лишь бы только не на русский народ.
В своих жалких попытках, таким вот кликушеским образом привлечь к себе всеобщее внимание и тем самым заработать очки популярности, они, будто неким новоисповедническим флагом, без стыда и совести, «размахивают» и апеллируют многочисленными высказываниями будущих Новомучеников и Исповедников Российских об особом предназначении и даже Богоносности русского народа, озвученных ими ещё до впадения оного в грех февраля 1917 года. Российской Православной Церкви не нужны политические очки популярности. Церковь обязана говорить Правду такой, какова Она есть. Пусть и горькую, но Правду. И Она Правду сказала. Как и иудейский народ, после распятия им Христа, не может считаться богоизбранным народам, так и русский народ, после февральского греха, не может считаться народом-Богоносцем [455].
И такая аналогия, и утверждение Церкви справедливы, как справедлива и Её анафема на народопоклонническую ересь: «Учащим, яко Руску народу безгрешну быти, святу и Богоизбранну токмо по силе племенной его общности со угодниками Божиими Святой Руси, довлеющей народу сему ко спасению, и потому не имущему нужды в покаянии за беззаконные и богопротивные дела его: Анафема» [456].
Обвинения же Государя Императора в гибели Российской Империи абсурдны по многим направлениям. Напомню лишь об одном. Обвинители почему-то упорно замалчивают, что Государю Императору Николаю Второму, по пророчествам и преданию Святых старцев и прозорливцев [457], было прекрасно известно своё Богопромыслительное предназначение. Известен был итог всеобщего предательства и отступления от Бога и Царя, и как следствие, закат Православной Российской Империи. Мог ли Государь идти против Богопромыслительного предназначения? Конечно же, не мог.
По примеру Господа нашего Иисуса Христа, последний Русский Император – Помазанник Божий - смиренно донёс свой крест до Русской Голгофы, взошёл на Неё вместе с Августейшей Семьёй и принял мученический венец из рук Господа.
Святый Царю-Мучениче Николае, моли Бога о нас грешных!
ГЛАВА ПЯТАЯ. О евреях
«И я слышал число запечатленных: запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых».
(Откр. 7:4).
О евреях сегодня ничего не сказал, разве что самый ленивый из всех пишущих людей. Так получилось, что в мирской жизни слышать о них приходилось крайне редко. Немного знал о евреях из рассказов наших бывалых хуторян и понаслышке. И только позднее, пальцем указали на них в институте. Указали конкретно. После, встречались они и на Северах. Главный инженер объединения «Якутзолото» слыл махровым евреем. И главный геофизик одной известной в Якутии геолого-разведывательной экспедиции тоже смело причислял себя к этому роду-племени. Тут ничего не скажешь. Главный геофизик, правда, ничем не рисковал. Но за смелость, всё же, надо отдать ему должное. Это из тех, кто был на виду и слуху. В монашестве информации о евреях прибавилось и прибавилось значительней, чем ожидалось [458].
А позднее, пришлось с ними даже встречаться и разговаривать.
Будучи уже епископом, как-то, пришли ко мне три прилично одетых человека. Свиду люди, как люди. Издалека видна интеллигентная «косточка». Я пригласил их в келью. Предложил присесть на стулья. Они присели. И стали мы о чём-то говорить. Ничего необычного. Люди спрашивали, а я отвечал. Вопросы «сыпались» один за другим и постепенно, я так увлёкся своими ответами, что позволил себе несколько раз повторить всем известное славянское слово «жид». Позволил себе по инерции и без всякого заднего умысла. Не говоря уже о каком-то оскорбительном или ругательном аспекте.
И вдруг…
- Что вы такое говорите? Как можно произносить такое ругательное слово, - неожиданно, возмутился один из сидящих напротив интеллигентов. И тут же продолжил свой монолог, но уже без возмущения, а поучая. – Вы же русский православный архиерей. Разве можно русскому православному архиерею говорить такое оскорбительное слово…
А почему бы и нет?
«Так, всё понятно» - подумалось мне. Знай я наперёд, что передо мной не русские пришлые люди, а евреи, может и не стал бы произносить это слово. Однако сказанного уже не воротишь. Что называется, «слово - не воробей», уж, коль вылетело, то попробуй его теперь обратно поймай. Но и отступать перед таким поучительным еврейским натиском не хотелось.
- А с каких это пор, славянское слово «жид», вдруг, стало ругательным? – начал я проповедь, не меняя прежнего тона. – Во всех наших Богослужебных книгах оно так и прописано - «жид». Прописано и достойно несёт своё информационное значение. Это в последнее время, сами же евреи, сделали его ругательным или нарицательным. В Польше, Чехии, Западной Украине слово «жид» и до сей поры, является литературным и никто на него не обижается. Там даже газеты выпускают с названием - «Жидовская правда» и тому подобное. А значительная группа евреев, из тех мест, обижается, если их называют евреями, а не жидами.
Смотрю, мои оппоненты притихли и слушают очень внимательно, не перебивая. Что ж, в такте и умении слушать им не откажешь.
- Как я понял, вы евреи. Так?
Устного ответа не последовало, но их разом склонённые головы догадку мою подтвердили.
- Хорошо. Вот, вы евреи. Проживаете в России и видимо, возмущаетесь, что русские люди вас, мягко говоря, не очень-то любят. Есть такое или же нет?
Снова согласное молчание.
И я продолжаю.
- Вас не любят. А вы не задумывались, почему вас не любят русские люди? И не только русские люди, но и все остальные народности. Скажу больше, вас не любят во всём мире. Но, почему? Почему мы вполне нормально относимся к немцам, мордве, чувашам или ещё там к кому-то, а вас так не любим? С немцами мы всю свою историю провоевали, но у нас нет к ним такого неприятия и такой не любви, как к вам и вашему племени. Вот, ведь, незадача! Да и за что вас любить, когда вы и сами себя не слишком-то любите, хотя и считаете себя людьми, а всех остальных - хуже скота, то есть гоями.
После этих слов, евреи на стульях зашевелились, заёрзали, но, однако же, опять промолчали. Впрочем, я ещё и не закончил проповедь.
- Кому, как не вам знать о русской доброй душе и русском гостеприимстве. Испокон веку на Руси селились и жили в мире и дружбе с русскими многие национально- этнические группы. Многие из иноплеменников принимали Православную Веру и становились нашими, во Христе, братьями. Принимали Православие и евреи. Но чаще принимали они не по идее и духу, а по выгоде и по корысти. Кто сегодня правит в России? Разве не еврейский капитал? Путин, Лужков, Медведев, Иванов, Абрамович, Гусинский, Березовский, Дерипаска, Немцов, Явлинский и сотни других известных политиков, олигархов и предпринимателей - разве не еврейской национальности? И как они правят в Российской Федерации? У нас рождаемость превышает над смертностью? В России нет миллионов бездомных людей и миллионов безпризорных детей? У наших стариков приличные пенсии и в России прекрасные дороги? Или русские люди получают такое жалованье, на которое можно безбедно жить? Надо ли говорить о чиновничьем произволе, упоминать ещё о повальной коррупции и невиданном воровстве в высших эшелонах еврейской власти в России или вещать вам о тотальной еврейской бездуховности и разврате в средствах массовой информации? Так за что вас любить? Вы согласны со мной или нет?
После непродолжительной паузы, один из сидящих тихо ответил за всех.
- Мы согласны с вашими доводами.
- Так, ведь, Америку я не открыл. Сказанное, давным-давно, всем известно. Вы сегодня боитесь еврейских погромов. И много пишите о них. Я читал ваших публицистов. Но, кто к ним подводит русских людей? Разве не ваши правители? Вы и только вы сами виноваты в погромах, коль таковые случатся. А при такой уничтожающей политике, они неизбежны. Хотя, потом вы же сами и обвините русский народ во всех своих грехах, как уже бывало в истории и не однажды…
- Мы хотели бы поговорить с вами о Церкви, - воспользовавшись паузой, вставил реплику самый разговорчивый из евреев.
- О какой Церкви?
- О Русской Православной. Мы крещёные евреи и хотели бы услышать о своём месте в Русской Православной Церкви.
- Надеюсь, вы понимаете, что Российская Православная Церковь не имеет никакого отношения к церкви официальной, то есть к Московской патриархии?
- Да. Мы понимаем. Потому и пришли к вам узнать ваше мнение.
- Двери Российской Православной Церкви открыты. В том числе, открыты они и для евреев. Приём, приходящих людей из Московской патриархии у нас жёсткий. Евреи могут спасаться в Российской Православной Церкви, но не в священническом сане.
- Почему так? Поясните, ради Бога.
- А, что здесь пояснять. Церковь-то у нас Российская Православная, а не Израильская. Создавайте Поместную Православную Израильскую Церковь и спасайтесь в Ней в любом чине. Однако вы создавать Поместную Церковь, почему-то, упорно не желаете, а всё тянетесь к другим Поместным Церквам. Во многих из Них, если не во всех, вы уже успешно верховодите. В Российской Православной Церкви вы верховодить не будет. И одна из гарантий этому – не рукоположение в Ней евреев.
- А разве не сказано в Святом Писании о Церкви, что в Ней нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос [459]?
- Сказано. Однако Апостол Павел нам не приказывал обязательно или непременно рукополагать евреев в Поместных Церквах.
- Но, в противном случае, получается откровенная дискриминация.
- Верующий человек приходит в Церковь Христову ради спасения, а не ради чинов и наград. О чинах и наградах, в отличие от вас, он не думает и не помышляет. Наоборот, верующий человек бегает от чинов и наград. Зачем они ему в этом мире? Так было во все времена. Греки не хиротонисают инородцев в епископы. Это тоже дискриминация, по-вашему, или, как? Жидовинов, много веков кряду, Русские Православные Государи своими Указами не пускали жить на Святую Русь. И имелись на то веские причины. Тогда вы смиренно и долго молчали, а теперь заговорили о дискриминации. Упомяните ещё нарушение прав человека и название известной конвенции.
- И всё же нам непонятно такое отношение вашей Церкви к евреям.
- Хорошо. Я поясню вам. До недавнего времени, в Южно-Российской епархии больше трети священников составляли евреи. Их коллективное противостояние русскому священству и тихий, а то и весьма откровенный, саботаж правящему архиерею, вынудили нас пойти на такие решительные шаги. Не сделай мы этого, сегодня евреи-священники составляли бы подавляющее большинство в Церкви. При таком засилии, никто не даст нам гарантию, что некоторые из них не эмиссары Кагала.
- Вы так боитесь Кагала?
- Я боюсь гнева Божьего и Его Страшного Суда, а не Кагала. От Кагала же ничего хорошего ожидать не приходится. Нам не нужны его представители в Церкви. Разрушительная деятельность Кагала сегодня достаточно изучена и освещена, и освещена не только людьми, противостоящими ему, но и апологетами самого Кагала. Им контролируется мировое теневое правительство, а через него и большинство правительств самых значимых стран. Программы глобализации, так называемого, золотого миллиарда, зомбирования людей, планирования семьи, насаждения псевдокультур и так далее – генерированы и исходят от Кагала. Православная Церковь не может смотреть на его сатанинскую деятельность равнодушно. Князь мира сего правит посредством Кагала, правит через триста хасидских еврейских семей. И вы об этом знаете лучше меня. Вы не хасиды, однако, ваша еврейская кровь берёт верх над верой, логикой и всеми остальными чувствами. И вы часто смиряетесь с таким положением дел. Мы смириться не можем. И от этого тоже, возникают между нами противоречия и недопонимания. Есть они и в еврейском вопросе. Вы стали хозяевами на нашей земле. Так вы думаете. А по делам вашим, вы стали не хозяевами, а временщиками и оккупантами. Так думаем мы. Так оно и есть. И не только думаем, но и открыто, об этом, проповедуем. Жить без Божьей Правды нельзя. Если Церковь будет о Правде замалчивать или соглашаться с Кагалом, тогда, зачем мы на этой земле?
Мой монолог затянулся.
В этом же духе, я продолжал говорить какое-то время ещё. Евреи слушали с прежним вниманием. Хотя и сказанное им было вовсе не ново. Но я говорил от сердца и от всей души, и моё эмоциональное настроение невольно передалось и им. Когда мои слова, наконец, закончились, в келье установилась полная тишина. И на этот раз, продолжалась она уже дольше.
- Мы согласны и с этими доводами, - подвёл итог нашей встречи всё тот же разговорчивый человек.
После чего, они дружно все встали. Сдержанно поблагодарили за беседу. И вышли из кельи. Ушли из моего мира навсегда.
Больше я их никогда не встречал и не видел.
Родненькие мои!
Не случайно эпиграфом для главы о евреях взята строка из Откровения (Апокалипсиса) Иоанна Богослова, в котором упоминается о спасении ста сорока четырёх тысяч людей из всех колен сынов Израилевых. Число спасённых евреев, хотя и столь малое, но лишь один Господь знает, сколько спасётся человек из всех остальных народов этого мира. Можно было бы взять и другие эпиграфы, например, слова Господа нашего Иисуса Христа, где Господь упоминает об их отце дьяволе: «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего» [460]. Или взять слова другие и тоже обличающие, и уничижающие это известное человеческое племя. В Священном Писании таких слов предостаточно.
Я специально не стал этого делать и на позитивном примере показал, что в Церкви, действительно, нет ни Еллина, ни Иудея. И что спасётся в Ней сто сорок четыре тысячи и от еврейского народа, уверовавшего во Христа и всем своим сердцем и душой, принявшего Его Православное Вероучение, о чём и сказано в Откровении (Апокалипсисе) Иоанна Богослова. Это же число (сто сорок четыре тысячи) встречается в Апокалипсисе ещё один раз. Но оно уже относится не к спасённым евреям, а к девственникам, стоящих вместе с Агнцем на горе Сион и следующих за Ним, куда бы Он ни пошёл [461].
У каждого народа, как и у каждого человека, имеется свой путь к Богу и Богопознанию. У кого-то он тернистей или короче, у кого-то путь длиннее или менее труден. В истории случалось по-разному. Известны народы, так и не ставшие на Божеский путь, и затем, канувшие в историческое небытие. Сегодня на земле почти не осталось народов и отдельных людей, так никогда и не слышавших Евангельской проповеди. Нет таких людей, которые могли бы сказать, что мы ничего не знаем о Христе и Его земной жизни. А если и есть, то разве, что в труднодоступных джунглях Амазонки или Полинезии.
У каждого народа своя история. Есть истории схожие, есть и отличительные. Сойти со спасительного пути легко. И предать Истину тоже просто. Я уж не говорю о впадении в ересь. Таких примеров великое множество. Однако от Богоизбранности и правильности Богопознания, до осатанения и христоненавистничества удалось скатиться одному лишь еврейскому народу. И скатиться почти в полном составе. Это одна сторона еврейского вопроса. Имеется и другая.
В своём грехопадении евреи не замкнулись, не «закуклились», не изолировались от всего остального мира и нисколько, и ни в чём не раскаялись. А, рассыпавшись по всем земным весям, селениям и городам, они стали с бесовским усердием заражать осатанением и христоненавистничеством и все остальные народы. Заражать добровольно-сознательно, с дальним прицелом и умыслом. Христиан гнать, язычников натравливать на христиан. Искушать ересями и похотьми. Постепенно прибирать к рукам финансы, медицину, сферу услуг и развлечений, сельское хозяйство и ремесленные промыслы. А через всё это и постепенно править провинциями, государствами и целыми империями.
Став надёжным инструментом и верным слугой князя мира сего, евреи, еврейский капитал, во главе со своим хасидским Кагалом, путём финансово-экономических махинаций, насаждения бездуховности, вольнодумства и безбожия, а позднее - социальных потрясений, войн и революций - добились полного мирового господства. И стали править миром. То, чего не удавалось ни египетским фараонам, ни персидским царям, ни Александру Македонскому, ни Наполеону и ни кому-то другому, удалось евреям. Чужой кровью и чужими руками, они загребли «жар» мирового господства. И теперь преспокойненько правят миром, навязывая ему свои сатанинские условия, уничтожительные программы и всё остальное, что пожелают и чего захотят. Что называется, гора родила мышь, но мышь такую, которая вскоре её поест.
Разные встречаются евреи. Но не встречается [462] ни одного, кто бы до конца и с покаянием в душе, осознал и понял, что зло в нашем христианском мире пришло и всё ещё, приходит через них. Пришло и приходит через евреев. Грех распятия Христа и голос родовой крови их так крепко связали, что они, как и падшие ангелы, не в состоянии подняться над своей закосневелой гордыней. Они не могут покаяться и посмотреть шире и глубже, в том числе, посмотреть и на свою собственную проблему. Не могут подняться даже лучшие и наиболее дальновидные из них. А может быть и не хотят.
Приведу лишь один пример.
В известном автобиографическом романе еврейского философа и писателя Ю. Б. Марголина «Путешествие в страну Зе–Ка» довольно правдиво описаны все ужасы и перипетии контрационных лагерей советского ГУЛАГа. Автор туда попал в 1939 году вместе со своими соплеменниками, после оккупации войсками РККА и НКВД Западной Белоруссии.
В самом начале романа, Марголин красочно описывает встречу в посёлке Медвежьегорске - столице лагерей в зоне Беломоро-Балтийского канала - с евреем-начальником этих же лагерей Левинсоном. Только что прибывшие на приполярную «командировку» евреи очень сильно удивились, что начальник лагерей относительно сносно говорит на их родном еврейском языке.
Майор государственной безопасности Левинсон вышел лично встречать эшелон с Западной Белоруссии. Автор описывает эту встречу с долей надежды на лёгкую лагерную жизнь. Как же, такой высокий лагерный начальник и вдруг, какое счастье, из самых, что ни на есть, настоящих евреев. Неслыханная удача. Разве он даст в обиду своих соплеменников? Здесь поневоле возрадуешься и обнадеждишься. Но не тут-то было. На этом все еврейские привилегии и закончилась [463].
Постояли, поговорили немножко приезжие люди с Левинсоном на родном языке. Узнали от него горькую правду, что они теперь, не чьи-то там вольные граждане независимых западных стран, а самые обыкновенные советские заключённые. И дальше уже пошли времена для них лагерно-беломорские, времена гораздо более печальные и прозаические. Познавательные и смертельные. Мало кому удалось дожить до свободы и увидеть своих родных и близких или места обетованные.
В этой свидетельской книге, автор-сиделец подробно описывает человеконенавистническую лагерную систему ГУЛАГа, из которой он и сам едва живой выбирается. Куда уж там немцам до неё. Из воспоминаний старых еврейских сидельцев Марголин хорошо знает, что немцы и передачи продовольственные разрешают, и деньги в немецких лагерях водятся. На них даже колбаски евреям купить не возбраняется. А здесь! И не приведи Господь, что творится.
Хуже самого дикого рабства. Философия в романе, если и присутствует, то очень и очень трагическая. Да и какая может быть ещё другая философия в пекле тотального унижения и уничтожения людей. Непосильная каторга, жестокий голод, начальственный и уголовный произвол, тысячи и тысячи смертей - показаны им очень ярко и что гораздо важнее - правдиво.
Через всё повествование, красной нитью проходит понятная ненависть ни в чём неповинного человека к режиму советской власти. Однако автор, почему-то, не упоминает и даже не пытается искать первопричины случившейся с ним и с другими людьми трагедии. Объективно критикуя советскую власть и всю её ненавистную карательную систему, Марголин, почему-то, ничего не говорит об авторах их идейного порождения, и воплощения в жизнь – о евреях. В исполнительной советской тактике могли быть замешаны все народы Совдепии. Это понятно. А вот в её идейной, человеконенавистнической и православноненавистнической стратегии – замешаны и повинны одни лишь только евреи.
И спорить тут не с чем.
Идея советской системы начиналась не с октября 1917 года и тем паче, не с периода оккупации войсками РККА и НКВД западных сопредельных стран, а с талмудического иудаизма, иудейского кодекса поведения Шулхан-Арух, подчёркивающего еврейскую национальную исключительность и превосходство, и бредовых коммунистических идей К. Маркса. За два десятка окаянных лет идея материализовалась и выстроилась в жёсткую карательную систему. Под руководством - Ленина, Троцкого, Свердлова, Сталина, Ягоды, Ежова и прочих адептов сатанизма, советская система, в том числе и система лагерная, еврейством вынашивалась, лелеялась и с еврейским же приглядом, затем росла и процветала.
Она раскинулась на всей территории бывшей Российской Империи и даже намного шире. А поначалу замахивались и на мировую революцию. Да сатанинского запала, видать, не хватило. Монстр-молох вырос, стал неприхотлив и не слишком разборчив в еде. Как раз, в это самое время Марголин с соплеменниками и угодил в его открытую, и ненасытную пасть.
Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что одному лишь еврейству советская система и обязана своим зарождением, и воспитанием.
Церковь всегда обо всём этом помнила и знала. И всегда об этом проповедовала своим прихожанам. Многие русские люди, поэтому знали и знают об источнике и проводнике зла. Отсюда тоже, вытекает такое неприятие, а порой и открытая нелюбовь к евреям.
И обижаться здесь не на что.
В своей духовно-идейной и стратегической слепоте Ю. Б. Марголин оказался не одинок. Тем же самым грешили и грешат и многие другие еврейские, и русские писатели и публицисты: А. И. Солженицын, В. Т. Шаламов, Э. В. Тополь (Топельберг)…
Веками и тысячелетиями паразитируя на, том или ином, коренном народе, и со временем, впитав его «соки» и став полновластным мировым господином, еврейство выродилось в особую касту. Касту, так называемых, элитных людей, для которой уже не существует понятий нравственности и морали, даже в их общечеловеческом понимании. Говорю не обо всех, а о многих. Навязывание (зомбирование) через средства массовой информации еврейского образа жизни, порочного мышления, культа золотого тельца и «духовных» ценностей, в наши дни, достигло своего сатанинского апогея.
У большинства евреев нет понятия родины и родной земли. А у тех, кто вошёл в еврейскую элиту - нет понятия порядочности и чести. Все еврейские магнаты выросли из грязи порока, обмана или иного греха. Они и сами этого непреложного факта не отрицают. Заявляют о нём открыто. Заявляют, как должное и само собой разумеющееся. Сегодня они уже никого и ничего не боятся. Ибо силы, могущей им противостать, в мире уже давно не существует. Так думают и полагают они. Российская Православная Церковь единственная духовная преграда, которая стоит у них на пути. Но мы пока настолько малы и слабы количественно и материально, что нас они просто не замечают, а если и замечают, то игнорируют.
Не в силе Бог, а в Правде!
Есть люди и среди евреев, которые знают и твёрдо помнят об этом.
Россия – особая и ненавистная ипостась для евреев. Мы ими ослаблены и больны. Духовно и физически истощены. Мы – полутруп, выброшенный ими на историческую мировую обочину. Поэтому им доставляет особенное наслаждение, и удовольствие копошиться в наших гниющих и кровоточащих ранах. Лютая ненависть к бывшей Российской Империи и к бывшему православному русскому народу, миллионными сотнями, ушедшими из жизни по вине коммунистических представителей их кровавого племени, и в наши окаянные дни, витает в воздухе, и она не исчезла с лица русской земли.
Наше вчерашнее и нынешнее «не любовное» отношение к евреям, и рядом не стояло с той дикой по лютости ненавистью, и с той «любовью», которую испытывают к нам еврейские оккупационные власти. И эта ненависть наглядно отражается: в миллионах русских смертей, миллионах бездомных, безпризорных, миллионах алкоголиков и наркоманов, проституток, больных СПИДом, туберкулёзом и сифилисом, и прочими неизлечимыми или малоизличимыми заболеваниями.
Эта ненависть изливается широкой и быстротечной рекой за наши кордоны в виде: русских нефти и газа, драгоценных камней и металлов, русских детей, человеческих имплантационных органов, русского леса и непрерывного валютного потока…
На территории Российской Федерации сегодня сосуществуют и совсем неплохо уживаются два мощнейших еврейских клана.
Один клан – правит и заправляет в придуманной ими стране. Как ленивая и разжиревшая свинья, он со всеми своими ногами вломился в жирную государственную кормушку. А другой клан - морочит голову, уже уставшим от всего, русским и русскоязычным людям, и всему остальному миру. Успешно морочит. Этот клан от кормушки отстоит чуточку подальше и он, якобы, находится в оппозиции. При смене «слагаемых» желаемая «сумма» никогда не изменится. И не меняется. Очень выгодная и удобная позиция, проверенная на западном опыте и веками. В любом случае и при любом политическом раскладе, евреи в проигрыше никогда не останутся. Такая позиция выигрыш им гарантирует.
Если в еврейских аптеках 70% лекарств – не лекарства, а в Московской патриархии 70% «архиереев» - евреев, то чем же вы лечитесь и от кого вы окормляетесь? Проценты взяты из официальной статистики. При поправке на постоянную официально-статистическую ложь, они ещё большие и мой вопрос тогда не с одним, а с двумя или даже тремя восклицательными знаками.
Хасидские ритуальные убийства доказаны ещё в середине девятнадцатого века. И доказаны они, не кем-нибудь из простых или посторонних людей, а чиновником для особых поручений при министре внутренних дел Российской Империи В. И. Далем. По поручению министра внутренних дел, другом Пушкина и автором знаменитого «Толкового словаря живого великорусского языка», было проведено тщательное и соответствующее расследование. И более чем на ста сорока примерах, В. И. Даль доказал наличие ритуальных убийств евреями-хасидами русских православных отроков и младенцев с целью получения ими невинной христианской крови, для своих сатанинских хасидских обрядов [464].
В наше время жестокие хасидские убийства в России заметно участилась. Их теперь не скрывают и сами еврейские средства массовой информации.
Скрытая и открытая ненависть к русским людям, к России и к распятому ими Христу видна и невооружённым глазом. И примеров ненависти, сколько угодно. Было бы желание эти примеры слушать и наблюдать. Свою ненависть особенно не скрывают ни писатели, ни другие представители от еврейской культуры. Пишут и говорят о ней, не стесняясь. То, о чём я пишу, как в подтверждение, весьма достоверно и откровенно показано в книге Э. В. Тополя (Топельберга) «Московский полёт».
В этой книге автор рассказывает о малом еврейском исходе из СССР в конце семидесятых годов прошлого века и о своей эмигрантской жизни в США.
В одном из эпизодов еврейского исхода из СССР, когда иммигрирующие люди уже подходят к трапу вожделенного самолёта, и вместе с ними, два дюжих русских грузчика подносят и парализованную девяностолетнюю старушку-еврейку, улетающую к своим детям в Израиль, неожиданно для всех эта старушка приказывает грузчикам опустить её, на всё ещё русскую, землю. Приказывает не по-женски капризно, а строго и категорически. Казалось бы, зачем?
И с какой целью?
Когда же русские грузчики поставили её на тонкие ножки, то она, отказавшись от участия и поддержки своих любимых соплеменников, гордо и с ненавистью в голосе заявила.
- Не надо! Я сама уйду с этой земли!
И дальше уже, автор книги, лукаво и с присущим ему нацистско-еврейским пафосом объясняет поступок старушки-соплеменницы: «И сама, поверьте, сама мы только шли по бокам, страхуя, - поднялась в самолет по трапу. Господи, подумал я, какую же силу ты даешь порой этому маленькому народу и какую же ненависть надо было скопить к этому государству, чтобы он мог вот так разогнуть парализованные ноги и встать, наконец и уйти с этой земли!..».
Вся «старушкина» [465] «правда» заключена в её ненависти. В ненависти не только к созданному евреями социалистическому государству, с одиозным названием - СССР, но и к выращенному, ими же, новой общности советских людей - советскому народу. По простой логике, если, уж и ненавидеть, то следует ненавидеть не эту землю и людей её населяющих, а себя и своё еврейское племя. И опять же, по той же самой логике, если уж покинули эту столь ненавистную землю и людей её населяющих, то зачем же возвращаться обратно? Ан, нет. Власть в России откровенно еврейская. Поэтому и возвращаются десятками, и сотнями тысяч. Возвращаются, чтобы продолжать паразитировать и пить русские «соки».
Открыто глумясь и нагло подчёркивая победу торжества беснования, нынешние еврейские власти в России, наряду с официальным «православием», исламом и буддизмом, вписали и свою сатанинскую веру – талмудический иудаизм – в государственный Закон традиционных, а, следовательно, и приоритетных религий Российской Федерации. В Кремле существует кошерная кухня и в Москве же, с помпой и на всю страну, отмечают бесовскую хануку и другие, тому подобные, иудаические ритуальные праздники и торжества. По всей стране действуют и процветают синагоги.
А в столице России их насчитывается несколько штук.
Нет никакого различия между театром и синагогой.
«…Знаю, что некоторые сочтут меня дерзким за то, что я сказал: нет никакого различия между театром и синагогою; а я считаю их дерзкими, если они думают иначе. Если я решаю так сам собою, вини меня; но, если говорю слова пророка, прими решение. Знаю, что многие уважают иудеев, и нынешние обряды их считают священными: потому спешу исторгнуть с корнем это гибельное мнение. Я сказал, что синагога нисколько не лучше театра, и приведу на это свидетельство из пророка; иудеи, конечно, не больше пророков заслуживают вероятия. Так, что же говорит пророк? Лице жены блудницы бысть тебе, не хотела еси постыдетися ко всем (Иер. II, 3)». Это слова Свят. Иоанна Златоуста, взятые из его «Восьми слов против иудеев».
По ходу своих воспоминаний, мною несколько раз упомянуты такие слова, как: «иудеи», «евреи», «жиды», «жидовины», «дети Израиля». Упоминал я их, подразумевая одно и тоже, ибо точно так же поступает и Свят. Иоанн Златоуст. Он не разделяет слова «иудеи», «евреи» и не привносит в них ни историческую, ни религиозную составляющие, а вкладывает в эти слова один и тот же этническо-информационный смысл. Святитель смело говорит о «синагоге еврейской», «еврейском сборище». И дальше в своих «Восьми словах против иудеев» Свят. Иоанн Златоуст пишет.
«…А лучше сказать, синагога есть только непотребный дом и театр, но и вертеп разбойников и логовище зверей: не вертеп ли иенин (гиены), говорится, достояние мое мне (Иер. XII, 8 и VII, 11), - вертеп не просто зверя, но зверя нечистого. И еще: оставих дом Мой, оставих достояние Мое (XII, 7); а когда Бог оставит, то какая уже надежда на спасение? Когда оставит Бог, тогда место то делается жилищем демонов. Конечно (иудеи) скажут, что и они покланяются Богу.
Но этого сказать нельзя; никто из иудеев не покланяются Богу. Кто говорит это? Сын Божий. Аще Отца Моего бысте ведали, говорит Он, и Мене ведали бысте: ни Мене весте, ни Отца Моего (Иоан. VIII, 19). Какое еще можно привести мне свидетельство достовернее этого? Итак, если они не знают Отца, распяли Сына, отвергли помощь Духа; то кто не может смело сказать, что место то (синагога) есть жилище демонов? Там не покланяются Богу, нет; там место идолослужения».
Во все времена евреи обманывали и дурачили православные народы. Впрочем, дурачили и все остальные народы. Тогда обманывали в меньшей степени, сейчас - в степени большей. Оно и понятно – технические возможности обмана на целый порядок, а то и на два, повысились. Только не находятся сейчас Златоусты. И некому сказать слово Правды. Всё больше видны и слышны одни лишь еврейские подпевалы, их верные слуги и угодливые послушники. Особо осторожные люди и теперь пытаются меня предупредить или даже остановить. Им кажется, что я слишком, уж, прямо и откровенно пишу. Они боятся, как бы и чего, вдруг, не вышло. А оппоненты, те возмущаются «накатом» на евреев-священников. И те люди, и другие, видимо, запамятовали слова Преподобного Иосифа Волоцкого сказавшего в своём безсмертном «Просветителе».
«Нынешние... отступники гораздо хуже тех (прежних еретиков), сквернее и лукавее. Находясь среди православных, они выказывают себя православными, и если кто-либо крепко стоит в вере Христовой и Православии, от того они всячески таятся; если же увидят кого-нибудь из более простодушных, то готовы уловить его. Чтобы привлекать людей в жидовство, они дерзают даже становиться священниками... Если же кто-либо из православных захочет восстать на них с обличением, то они отрекаются от жидовской веры, да еще и проклинают ее последователей, и клянутся страшными клятвами, что они православные, – для того, чтобы их не разоблачили и им удобнее было бы тайно прельщать православных».
В последние времена таких прельстителей развелось великое множество. В РПЦЗ, РПЦЗ (В), РИПЦ, РПАЦ и по всем остальным юрисдикциям и «осколкам», их больше, чем достаточно. Отсюда и прожидовская, властелюбивая политика. Так сразу и не отличишь от Московской патриархии. Да и разницы, по существу, нет никакой. Что по духу, что по делам их.
Испокон веку, русские Государи [466], а позднее и русские православные Государи, начиная со Святого Равноапостольного великого князя Владимира, боролись с засильем и произволом вездесущего еврейского племени. Не знаю, станет ли для вас новостью, если скажу, что первое изгнание евреев из пределов Святой Руси произошло при Святом Равноапостольном великом князе Владимире. А следующее изгнание последовало уже при великом князе Владимире Мономахе.
Гнали евреев и по всей Европе, начиная с первого века новой эры [467] и кончая 1750 годом, когда за ритуальное умученичество трёх христианских детей они были изгнаны из города Каменец-Подольска. Выверены и православно точны слова из Указа русской Императрицы Елизаветы Петровны по изгнанию евреев из пределов Российской Империи.
В своём знаменитом Указе правительственному Сенату Императрица Елизавета писала.
«Жиды существуют в различных частях России. От этих ненавистников Христа мы не можем ожидать ничего хорошего. В связи с этим обстоятельством, я издаю следующий приказ: все евреи, мужчины и женщины, независимо от их положения и богатства, со всем их имуществом должны немедленно убраться за пределы границы. От этих врагов Христовых я не хочу иметь никакой прибыли. Как-то уже по неоднократным предков наших указам, по всей нашей Империи жидам жить запрещено.
Но ныне нам известно учинилось, что оные жиды еще в нашей Империи под разными видами жительство свое продолжают, от чего ни иного какого плода, но токмо, яко от таковых имени Христа Спасителя ненавистников нашим верноподданным крайнего вреда ожидать должно.
А понеже наше матернее намерение есть от всех чаемых нашими верноподданными и всей нашей Империи случиться могущих произойти худых последствий крайне охранять и отвращать, того да всемилостивейше повелеваем: из всей нашей Империи, как то великороссийских, так то и малороссийских городов, сел и деревень, всех мужеска и женска пола жидов, какого бы кто звания и достоинства ни были, с объявлением указа, со всем их имением немедленно выслать заграницу и впредь оных ни под каким видом в нашу Империю ни для чего не впускать, разве кто из них захочет быть христианской вере греческого исповедания; то таковых крестя, жить им позволить, только из государства уже не выпускать» [468].
Выше я уже приводил выдержки из Священного Писания и вероучительные слова о евреях Святого Иоанна Златоустого. В Церкви Христовой редко кто из Святых Божьих угодников не учил подобным же образом. Можно привести ещё десятки примеров праведных слов Святых Отцов о сем глаголемом племени. И не только Святые Отцы говорили правду о евреях, но и множество Государей и государственных деятелей, философов и писателей, промышленников и предпринимателей и многих, многих других людей, оставивших свой заметный след в мировой истории.
Почти все (прошлые и нынешние) межгосударственные военные конфликты, и последние мировые войны спровоцированы и развязаны евреями.
Что подтверждает и знаменитый американский автомобильный промышленник Генри Форд. Подтверждает не только это, но и многое другое, уже сказанное.
«Куда бы еврей ни шёл, за ним следовало проклятие отвращения других народов, - пишет в 1925 году Г. Форд. - Евреев, как расу, никогда не любили, этого не станет отрицать и самый правоверный еврей, хотя он объясняет это по-своему. Даже в новейшее время, в цивилизованных странах, при условиях, исключающих возможность преследования, эта нелюбовь продолжает существовать.
Существует ли в России еврейский вопрос? Бесспорно и при том в острой форме. Должен ли он быть разрешён? Бесспорно и при том всеми возможными мерами, лишь бы они несли с собой свет и исцеление. И всё же в России дух еврейства приобрёл такую великую силу, что совершенно поработил русскую духовность. Будь то в Румынии, в России, в Австрии, Германии или в любом месте, где еврейский вопрос стал на очередь как жизненная проблема, везде главную причину этого нужно искать в стремлении еврейского духа к господству.
Каждый, кто в Соединенных Штатах, либо в другой любой стране попробует заняться еврейским вопросом, должен быть готов выслушать упрёк в антисемитизме или получить презрительную кличку «погромщика». Ему нечего ожидать поддержки ни со стороны населения, ни со стороны печати. Всякий писатель, издатель или человек, проявляющий интерес к еврейскому вопросу, почитается жидоненавистником; это считается единственно допустимым объяснением гласного обсуждения еврейского вопроса.
Еврей верит, что мир принадлежит ему одному по праву и что он не делает, в сущности, ничего иного, как только собирает свою собственность. Самый короткий путь для этого - есть разрушение существующего строя путем переворота. Евреи владеют Россией. Всё там, на деле, принадлежит им. Международные евреи и их пособники, являющиеся сознательными врагами всего того, что мы понимаем под англо-саксонской культурой, на самом деле многочисленнее, чем это кажется легкомысленной массе людей, которая защищает всё то, что делает еврей, так как ей внушили, что всё, что делают еврейские вожаки, прекрасно. Подвергните контролю 50 наиболее богатых еврейских финансистов, которые творят войну для собственных прибылей, - и войны будут упразднены» [469].
Как ни покажется странным, но говорили правду о себе самих и сами евреи. Наверное, не самые худшие из них. Приведу лишь один наглядный пример из известной книги еврейского общественного деятеля и публициста Бернара Лазара.
«Жид - это тот, кто одержим единственным стремлением нажиться елико возможно быстрее и притом легчайшим путём - через обман, подлог и предательство. Жид презирает добродетель, бедность и бескорыстие. Когда жид бывает журналистом, газета в его глазах неисчерпаемый источник барышей, которым надо пользоваться всеми возможными способами.
Газетному жиду присущ своеобразный талант угадывать самые потаённые страсти, при чём он не только изловчается кадить им, удовлетворять и подзадоривать их, но и, деморализуя всё вокруг, он из общего распутства делает себе славу. Остроумие он заменяет пошлым каламбуром, красноречие - фразеологией, энтузиазм - эпилепсией. Такой газетчик лжёт, одурачивает, сбивает с толку. А когда ежедневные печатные столбцы перестают удовлетворять его, тогда он перекочёвывает в театр и здесь уже наповал оскотинивает свою публику.
Когда жид является банкиром, он располагает для всего злого могущественной организацией и особого рода трущобными дарованиями. Жид заносчив и жаден, нагл и фальшив. Свои плутни он раздувает неизменно по одной и той же схеме - от ловкого, а подчас и банального мошенничества до отчаянно-дерзкой, но «ненаказуемой» кражи. Наконец, когда жид ведет политику, он достигает своих целей шарлатанством, подпольной вознёй и лестью. Жид - природный интриган с готовым запасом ябеднических изворотов. Да и в самой политике он обыкновенно не видит ничего, кроме возможности расплатиться с долгами и обогатиться спекуляцией...
Из того факта, что враги евреев принадлежали к самым разнообразным племенам, что они жили в странах, весьма друг от друга отдалённых, что они подчинялись различным законам и управлялись противоположными принципами, что они не имели ни одинаковых нравов, ни одинаковых обычаев, что они были движимы отличными друг от друга психологиями, не позволявшими им одинаково судить обо всём, - вытекает заключение, что общие причины антисемитизма всегда коренились в самом Израиле, а не у тех, которые с ним боролись» [470].
Не по этим ли национальным особенностям великий князь Владимир Мономах изгонял евреев в 1113 году с такими словами.
«Ныне выслать жидов из земли русской со всем их имуществом и впредь не принимать их, а если они тайно войдут, то вольно их убивать и грабить» [471].
Кто-то, с сомнением, спросит.
- Может быть, несправедливо евреев всё время изгоняли из разных стран и городов, и столько всего о них понаписали мерзкого и негативного?
Такие вопросы и такие сомнения были бы уместны при нашем полном историческом и духовном дилетантизме, и не наблюдай мы воочию, что сегодня творит еврейская власть в Российской Федерации и не только в ней одной. Повторяться я не стану. Выше сказанного вполне достаточно. Беззаконие властей хорошо известно и оно уже давно стало притчей во многих языцех.
Нового, по существу вопроса, сказать и добавить здесь нечего.
Стоит ли нам опускать руки и посыпать голову пеплом? Отчаиваться и впадать в уныние не следует. Уже мало нам осталось терпеть. Близится конец их владычества и оккупации. О том же пророчествуют и наши Святые старцы, и угодники Божьи.
«Я предвижу восстановление мощной России, ещё более сильной и могучей. На костях вот таких мучеников, помни, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая, - по старому образцу; крепкая своей верою во Христа Бога и во Святую Троицу! И будет по завету Святого Князя Владимира - как единая Церковь! Перестали понимать русские люди, что такое Русь: она есть подножие Престола Господня! Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский» [472].
«Россия сольётся в одно море великое с прочими землями и племенами славянскими, она составит одно море или тот громадный вселенский океан народный, о коем Господь Бог издревле изрёк устами всех святых: «Грозное и непобедимое Царство Всероссийское, всеславянское - Гога и Магога, пред которым в трепете все народы будут». И всё это, всё равно, как дважды два четыре, и непременно, как Бог свят, издревле предрекший о нём и его грозном владычестве над землёю. Соединёнными силами России и других (народов) Константинополь и Иерусалим будут полонены. При разделе Турции она почти вся останется за Россией...» [473].
Преподобному Серафиму Саровскому вторит и монах-провидец Авель.
«Свершатся надежды русские. На Софии, в Царьграде, воссияет Крест Православный, дымом фимиама и молитв наполнится Святая Русь и процветёт, аки крин Небесный» [474].
О том и помолимся!
И Богу нашему слава!
ГЛАВА ШЕСТАЯ. Причины истощения РПЦЗ
«Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению; ибо они не думают, что худо делают».
(Книга Екклесиаста или Проповедника. 4:17).
Почти все толкователи канонического обоснования Русской Зарубежной Церкви, как правило, ссылаются на «Постановление Святейшего патриарха Тихона (Белавина), Священного Синода и Высшего Церковного Совета от 20 ноября 1920 года №362». С этого «Постановления», многие апологеты РПЦЗ и начинают своё обоснование, считая его безупречным документом, не требующим пояснений. В церковном обиходе и литературе «Постановление» обрело статус Указа.
Так его все теперь и величают – Указом.
При поверхностном взгляде, Указ №362 ничего особенного и не предписывает. Он лишь лишний раз напоминает правящим архиереям их права и обязанности, которые они и без этого Указа, должны знать и руководствоваться ими в текущей церковной жизни. Правда, жизнь эта часто преподносит такие неожиданности, которые не пропишешь ни в какие бумаги. Что и случилось в феврале 1917 года, задолго до выхода «Постановления» Высшей церковной власти Поместной Российской Церкви.
Во втором пункте Указа, в частности, говорится.
«В случае, если епархия, вследствие передвижения фронта, изменения государственной границы и т. п. окажется вне всякого общения с Высшим Церковным управлением или само Высшее Церковное управление во главе со Святейшим Патриархом прекратит свою деятельность, епархиальный Архиерей немедленно входит в сношение с Архиереями соседних епархий на предмет организации высшей инстанции церковной власти для нескольких епархий, находящихся в одинаковых условиях (в виде ли Временного Высшего Церковного Правительства или митрополичьего округа или еще иначе)».
В остальных пунктах Указа подробно расписано, что следует делать архиереям, если положение на их канонических территориях ухудшится ещё более.
Посмотрите внимательней на дату этого Указа. Почему такой Указ не появился годом или двумя годами раньше? Разве годом или двумя годами раньше, когда по всей стране полыхала гражданская война и ещё ничего не было ясно, он не был бы актуальней? Пожалуй, так. Тогда зачем он, вообще, появился? Ведь и без всяких Указов
в городе Ставрополе, ещё в
1919 году, было организовано Временное Высшее Церковное Управление епархий Юго-Востока России.
И что же тогда получается?
А то и получается, что правы апологеты РПЦЗ. И что Указ №362 есть, лишь слегка закамуфлированное, распоряжение Высшей церковной власти Поместной Русской Церкви о создании параллельной церковной структуры, названной потом РПЦЗ.
Хорошо. А если бы не существовало Указа №362 (кстати, вскоре дезавуированного Указами патриарха Тихона №348 и №349 от 22 апреля/5 мая 1922 года) тогда, что, РПЦЗ вынуждена была бы пойти по неканоническому, то есть псевдоцерковному пути? Да, нет, конечно. В конце, концов, дело не в бумажных циркулярах, даже и таких важных, и всё определяющих, как Указ №362. Церковная жизнь достаточно хорошо расписана и регламентирована, и в дополнительных циркулярах она не особо нуждается. В любом случае, иерархи Русской Поместной Церкви, оказавшиеся за границей, были обязаны создать нечто подобное, так как, без единого заграничного управления (или как сказано в Указе «Временного Высшего Церковного Правительства») трудно представить себе достаточно жизнеспособную церковную среду.
Официальной датой рождения РПЦЗ можно считать начало первого заседания Русского Всезаграничного Церковного Собора («Собрание представителей русской Православной Церкви за границей для объединения, урегулирования и оживления церковной деятельности за границей»). Церковный Собор
состоялся в Сремских Карловцах (Сербия) 8/21 июня 1921 года под председателем митрополита Антония (Храповицкого) Киевского и Галичского, старейшего по хиротонии и авторитетнейшего из иерархов.
Не в лучшее время собрался Собор и не с простыми людьми. Столько времени прошло уже после Февральской революции, а страсти всё ещё не утихли.
«Послание» Собора к Генуэзской конференции, а также «Постановление» о монархии вызвало на Соборе разномнения и послужило своеобразным толчком к дальнейшему церковному размежеванию по, так называемым, «политическим» принципам.
Сам владыка Антоний (Храповицкий), по этому поводу, в письме к графу Мусину-Пушкину писал следующее.
«Нашлось у людей довольно безстыдства, чтобы, послав приветствие Ген. Врангелю и армии, осудив социализм и коммунизм, воздержаться от голосования в пользу наследственной монархии, 1) ибо она будто бы не церковная, а политическая идея (а армия и антисоциализм – церковные?) и 2) она может ухудшить положение Патриарха у большевиков (а сочувствие их активному врагу – армии и Врангелю, не может ухудшить?)» [475].
Возмущения митрополита Антония (Храповицкого) вполне понятны и разделимы. Ибо, далеко не все русские люди в исходе одумались и прониклись тем же самым православно-монархическим духом, что и он сам. Ошибки прошлого многие и не думали признавать, не говоря уже о покаянии. Антимонархические настроения ещё долго бродили в умах зарубежной русской паствы. А для немалой её части, они так и остались незыблемыми, и непререкаемыми.
Политическая пестрота русской иммиграции отражалась и в спектре её духовного состояния. Высотой духа обладали лишь очень и очень немногие из людей. К таким человеческим исключениям, несомненно, принадлежал и первый Первоиерарх РПЦЗ митрополит Антоний (Храповицкий). Не будет преувеличением сказать, что, во многом, благодаря его высочайшему духовному авторитету и удалось удержаться от падения, и вскоре создать то живительное православное ядро РПЦЗ, от которого, затем и пошло Её численное и духовно-авторитетное возрастание. Даже, несмотря на последующие расколы, Русская Православная Зарубежная Церковь смогла быстро стать тем самым зеркальным мерилом мирового Православия, в которое хотелось не только заглянуть, но и слиться с ним, приобщаясь к спасению.
Конечно же и митрополит Антоний оставался человеком своего времени. И как многие его современники, он тоже не избежал серьёзных мировоззренческих ошибок. И они всем известны. Однако его роль в создании и укреплении Русской Зарубежной Церкви, восстановлении и поддержке православно-монархических взглядов, переоценить трудно.
Каноничность Зарубежной Церкви - не вызывает сомнений. И заключена она не в букве Указа №362 [476] или, какого-нибудь, другого церковного документа, а в Духе Святом. И это главное, и всё определяющее, указывающее на благодатную, а, следовательно, и спасительную сущность Зарубежной Церкви. Можно иметь сколь угодно правильные и выверенные церковные документы и, однако же, по делам своим, выпасть за границы православно-канонического поля.
И примеров тому несть числа.
Чего, слава Богу, с РПЦЗ не случилось.
Наряду с Катакомбной Церковью, Русская Православная Церковь Заграницей вошла в Русскую Поместную Церковь и, в отличие от сергианского сборища, по праву являлась
духоносным Ковчегом Спасения. Благодаря РПЦЗ Евангельская проповедь разнеслась по всему миру. И все люди познали или же соприкоснулись с Православной Истиной, и Правдой Божьей.
История РПЦЗ условно разделяется на четыре части или четыре этапа. Разделяется по времени служения Её Первоиерархов – Митрополитов. Каждому из Первоиерархов досталась невероятно трудная монашеская и архипастырская стезя. И прошли они её со смирением и честью. Хотя и прошли, не без известных человеческих колебаний и компромиссов. У кого-то их набралось больше, а у кого-то и меньше. Мировая апостасия не проходила мимо. Она затронула все церковные структуры и общественные слои. И не только затронула, но и оставила свой отпечаток, в том числе и на священно-монашеское служение Первоиерархов РПЦЗ. Что, по-человечески, понятно и не так удивительно.
Когда на Первоиерархов Зарубежной Церкви, особо «ревнительные» люди, обрушиваются сегодня с критикой, я всегда отношусь к такой критике с некоторой долей скепсиса и порой, возмущения. А если эти «ревнители» находятся рядом, то пытаюсь их сдерживать и уводить от особой ревнительности и критичности. Потому, как критика и осуждение часто друг другу сопутствуют. По жизни идут они рядом. Их можно легко спутать, и невольно, впасть в грех осуждения.
Это, с одной стороны.
С другой же стороны, при оценке деятельности церковного человека в сане (и тем паче, Первоиерарха РПЦЗ), следует не забывать и свою немощность, и свою греховность. Для каждого, богобоязненного и ищущего спасения, православного человека, своя немощность и своя греховность - всегда первичны. И в первую очередь, в них - они каются и с Божьей помощью, их исправляют. Убеждён, что любой человек, критикующий Первоиерархов РПЦЗ, поставь его на их место, справился бы с первоиераршими обязанностями гораздо хуже, чем его высочайшие оппоненты.
Эта точка зрения, в полной мере, касается и меня многогрешного. Поэтому, помолясь Богу, я и подхожу к данной теме со всей осторожностью и непредвзятостью.
И помоги мне в этом Христос!
Монашеская жизнь и архипастырское служение первых двух Первоиерархов РПЦЗ между собой очень схожи. Они тесно переплетены и взаимосвязаны. Оба они - ещё царского архиерейского поставления. И оба они - являлись активными участниками Поместного Собора 1917 – 1918 годов. А затем участниками и очевидцами, всех последующих, гражданских, и церковных событий в России.
Оказавшись в Зарубежье, и митрополит Антоний (Храповицкий), и архиепископ Анастасий (Грибановский) дальше уже шли вместе, поддерживая друг друга и находя, в этой братской поддержке и единомыслие, и духовное утешение. Из всех «заграничных» архиереев Русской Православной Церкви, пожалуй, только архиепископ Феофан (Быстров) Полтавский и Переяславский [477], по своей молитвенной и архиерейской авторитетности, мог претендовать на место рядом с митрополитом Антонием (Храповицким). Однако Богу угодно было распорядиться совсем по-иному [478].
Учитывая и обновленчество, церковная среда, некогда единой Поместной Русской Церкви, с 1927 года [479], распалась на четыре антогонизирующие части. Однако с течением времени, с укреплением и усилением советской власти, непримиримость между ними постепенно сглаживалась и угасала, хотя и не без новых вспышек и временных усилений.
Чем же руководствуются современные богословы и церковные историки при определении Русской Поместной Церкви? Традиционностью православного вероисповедания? Да. Но далеко не одним лишь этим условием. В гораздо большей степени, они руководствуются отношением этих церковных частей (или юрисдикций) к богоборческой советской власти.
Полагаю такое руководство правильным.
В противном случае, тогда и грядущее принятие антихриста следует считать непогрешимым и едва ли, не богоугодным делом. Тесное сотрудничество с Совдепией, молитва за богоборческую власть и кощунственное утверждение обновленцами и сергианами советской власти - властью от Бога, а не от сатаны, на мой взгляд, лишило сергиан [480] Божьей благодати. И Святый Дух покинул эту псевдоцерковную структуру. Кто из них не покаялся и не отошёл от митрополита Сергия (Страгородского), а заодно и от церковного отдела ГПУ-НКВД, тот сам себя вычеркнул из Книги Жизни у Бога.
РПЦЗ и Катакомбная Церковь, наоборот, своим неприятием духа злобы и тьмы, а также, противостоянием их власти и жертвенным исповедничеством - оставили себя в границах спасительного православного поля. Эти две верные Богу православные ветви, по великой милости Творца Вседержителя и составили единую Русскую Поместную Церковь.
И всё же, несмотря на столь различное отношение к советской власти и продолжительную борьбу между собой, у всех новых церковных образований имелось и нечто общее, объединяющее. Прежде всего, это их активное участие и нераскаянность в февральском грехе.
В ходе мировой церковной истории, всеобщий февральский грех и послужил одной из отправных точек сближения, постепенного растворения, а затем и полного поглощения этих церковных образований в недрах Московской патриархии. Личное знакомство митрополита Антония (Храповицкого) и даже его давняя дружба с ересиархом - митрополитом Сергием (Страгородским), так же, оказала негативное влияние на принятие своевременного православного решения и к сергианской ереси, и ко всей их псевдоцерковной и просоветской структуре.
Трудно сказать, кому из Первоиерархов было труднее всего.
Митрополиту Антонию (Храповицкому) выпал крест начинать церковное строительство практически заново. Споры и нестроения. Политические и церковные разномнения паствы. Евлогианский и платоновский расколы [481]. Всё это не проходило для владыки безследно. Не добавляли ему оптимизма и духовные колебания, и противоречивые Указы из Москвы. За шестнадцать лет своего первоиераршества натерпелся он всякого. Но главное было сделано. И РПЦЗ не только поднялась и прочно встала на ноги, но и заняла одно из достойнейших мест во вселенском Православии.
А сколько духовных и физических сил, монашеского терпения и смирения, человеческой любви он положил на увещевание митрополита Сергия (Страгородского). Вслушайтесь ещё раз в эти святые слова, взятые мною из знаменитейшего «Письма Блаженнейшего митрополита Антония (Храповицкого) к митрополиту Сергию (Страгородскому)» от 6 мая 1933 года.
«…Что касается Вас, то с нами разделяет Вас то, что Вы в желании обеспечить безопасное существование церковному центру, постарались соединить свет с тьмой. Вы впали в искушение, сущность которого раскрыта в св. Евангелии. Некогда дух зла пытался и Самого Сына Божия увлечь картиной внешнего легкого успеха, поставив условием поклонение ему, сыну погибели.
Вы не взяли пример со Христа, св. мучеников и исповедников, отвергших такой компромисс, а поклонились исконному врагу нашего спасения, когда, ради призрачного успеха, ради сохранения внешней организации, заявили, что радости безбожной власти — Ваши радости и что враги ее — Ваши Вы даже постарались развенчать мучеников и исповедников последних (в том числе и себя, ибо мне известно, что одно время и Вы являли твердость и были в заключении), утверждая, будто бы они терпят темничное заключение, изгнание и пытки не за имя Христово, а как контр-революционеры. Вы этим возвели на них хулу. Вы унизили их подвиг, расхолодили тех, кто может быть приобщился бы к лику мучеников за веру. Вы отлучили себя от цвета и украшения Русской Церкви. В этом ни я ни мои заграничные собратья никогда не последуем за Вами…
«…Ничто так не возвещает и не укрепляет Церковь, как мученичество, хотя бы она таким образом лишилась и своего Предстоятеля. Для Вас крестный путь представляется теперь безумием подобно тому, как и современным Апостолам эллинам (1 Кор. 1, 23). Все силы свои направляете Вы к тому, чтобы жить в мире с хулителями Христовыми, гонителями Церкви Его и Вы даже помогаете им, добиваясь от нас изъявления лояльности и ставя клеймо контр-революцюнеров на тех, кто ничем не провинился пред советской властью кроме твердости в вере.
Умоляю Вас, как б. ученика и друга своего: освободитесь от этого соблазна, отрекитесь во всеуслышание от всей той лжи, которую вложили в Ваши уста Тучков и др. враги Церкви, не остановитесь перед вероятными мучениями. Если сподобитесь мученического венца, то Церковь земная и Церковь небесная сольются в прославлении Вашего мужества и укрепившего Вас Господа, а если останетесь на том пространном пути, ведущем в погибель (Мф. 7, 13), на котором стоите ныне, то он бесславно приведет Вас на дно адово и Церковь до конца своего земного существования не забудет Вашего предательства…».
После кончины митрополита Антония (Храповицкого), последовавшей 10 августа 1936 года, РПЦЗ продолжала укрепляться и возрастать под первоиераршеством его верного друга и единомышленника – митрополита Анастасия (Грибановского).
Нас сегодня иногда упрекают в благосклонности к германскому Третьему Рейху. Упрекают в симпатизации к его известным вождям, словно это не немецкий народ, а мы их добровольно избрали. Что интересно, упрекают, как раз, те самые люди, почитающие Первоиерархов РПЦЗ не меньше нашего. Для снятия надуманных упрёков приведу короткий отрывок из письма митрополита Анастасия (Грибановского) рейхсминистру Германии по делам церкви Гансу Керлу.
Первоиерарх РПЦЗ в своём письме к рейхсминистру писал.
«…В то время, когда Православная Церковь на нашей Родине подвергается беспрецедентным преследованиям, нас особенно трогает внимание Германского правительства и Ваше лично, пробуждает в нас чувство глубокой благодарности германскому народу и его славному вождю Адольфу Гитлеру и побуждает нас к сердечной молитве за его и германского народа здоровье, благополучие и о Божественной Помощи во всех их делах». («Церковная жизнь». 1936 г. № 6, стр. 89).
Это письмо написано им ещё в 1936 году. Позднее, последовали и другие письма. В том числе и самому рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру. В благодарность за построенный германским правительством храм в Берлине, митрополит Анастасий, в частности, упоминал следующее.
«…Кроме молитв, возносимых постоянно за главу государства, у нас в конце каждой Божественной Литургии произносится еще и следующая молитва: «Господи, освяти любящих благолепие дому Твоего, Ты тех воспрослави Божественною Твоею силою...».
Сегодня мы особенно глубоко чувствуем, что и Вы включены в эту молитву. Моления о Вас будут возноситься не только в сем новопостроенном храме и в пределах Германии, но и во всех православных церквах. Ибо не один только германский народ поминает Вас с горячей любовью и преданностью перед Престолом Всевышнего: лучшие люди всех народов, желающие мира и справедливости, видят в Вас вождя в мировой борьбе за мир и правду…». («Церковная жизнь». 1938. №5-6).
А следующие строки взяты мною из Пасхального Послания Первоиерарха РПЦЗ митрополита Анастасия (Грибановского) 1942 года.
«... Настал день, ожидаемый им (то есть, русским народом. Прим. М. Д.), и он ныне подлинно как бы воскресает из мертвых там, где мужественный германский меч успел рассечь его оковы... И древний Киев, и многострадальный Смоленск, и Псков светло торжествуют свое избавление как бы из самого ада преисподнего. Освобожденная часть русского народа повсюду уже запела... «Христос Воскресе!»...». («Церковная жизнь». 1942. №4).
Однако в 1946 году, поддавшись всеобщему послевоенному настрою, митрополит Анастасий писал уже несколько по-другому и в ином духе.
«Нельзя, конечно, скрывать того ныне общеизвестного факта, что истомленные безвыходностью своего положения, доведенные почти до отчаяния царившим в России террором русские люди, как заграницей, так и в самой России возлагали надежды на Гитлера, объявившего непримиримую борьбу коммунизму (этим, как известно, и объясняется массовая сдача русских армий в плен в начале войны), но когда стало очевидным, что он стремится на самом деле к завоеванию Украины, Крыма и Кавказа и других богатых районов России, что он не только презирает Русский народ, но стремится к его уничтожению, что по его приказанию наших пленных морили голодом, что германская армия при своем отступлении сжигала и разрушала до основания все встречающиеся ей на пути русские города и села, истребляли или уводила с собой их население, обрекала на смерть сотни тысяч евреев с женщинами и детьми, заставляя их заранее рыть для себя могилы, тогда сердца всех благоразумных людей обратились против него кроме тех, кто «хотели быть обманутыми».
Тогда всем стало ясно, что Гитлер не только не несет миру новой эры мира и социального и хозяйственного благополучия, как он обещал в своих речах, но готовит гибель себе и своему народу и всем, кто связывал с ним свою судьбу, что и случилось на самом деле. Утвержденное на безрелигиозном и часто аморальном основании, все его дело рушилось с шумом, похоронив под его развалинами его самого и его ближайших сотрудников. Этот грозный урок нужен был для всего современного человечества, дабы все увидели, что кто хочет строить жизнь без Бога, тот строит свое здание на песке и заранее обрекает его на полное крушение». («Послание к русским православным людям…». 1946 г) [482].
Вот, что вытворяет с нами стремительное и безвозвратное «время».
Ещё в 1942 году: «…древний Киев, и многострадальный Смоленск, и Псков светло торжествуют свое избавление как бы из самого ада преисподнего…». А в 1946 году уже: «…всем стало ясно, что Гитлер не только не несёт миру новой эры мира и социального и хозяйственного благополучия, как он обещал в своих речах, но готовит гибель себе и своему народу и всем, кто связывал с ним свою судьбу …».
Столь неожиданная смена взглядов митрополита Анастасия, на самом деле, выглядит не такой, уж и неожиданной. В те, первые (эйфорийные) послевоенные годы, она была присуща не только одному Первоиерарху РПЦЗ, но и многим другим зарубежным архиереям и церковным публицистам, во главе с русским православным мыслителем профессором И. А. Ильиным. Как видно из приведённой мировоззренческой двоякости митрополита Анастасия (Грибановского), Русская Зарубежная Церковь постепенно начинала подстраиваться под всеобщую мировую апостасийную шумиху, производимую слугами князя мира сего. До войны такие «подстройки» случались редко, а после войны – уже часто.
Жить по правде Божьей всё, как-то, не совсем и не до конца получалось.
Если же говорить шире и глубже, то, в отношении германо-советской войны, Русская Зарубежная Церковь так до конца и не определилась, и не выработала всеобщей церковной политики. Случались высказывания и послания Первоиерарха РПЦЗ, действия и высказывания отдельных Её архипастырей и пастырей. И не более того. Когда немцы набирали силу и побеждали – говорилось и писалось одно, а когда они стали проигрывать и потом проиграли войну – писалось и говорилось - другое.
То же самое касается и части Катакомбной Церкви. Обнадёживающая эйфория не долго витала и держалась в умах. С советскими военными успехами, появилась первая растерянность и разочарование. Стойкое сопротивление Совдепии постепенно начинало ослабевать. А вскоре оно и вовсе сменилось на апатию и безразличие. Долго такое состояние продолжаться не могло. Эти катакомбники, утратив соль исповедничества, переметнулись на сторону советской власти. А после, как и отдельные епископы Зарубежной Церкви, они уже спокойно и без зазрения совести, перешли в Московскую патриархию.
Таковы реалии прошлого времени.
От них никуда не денешься и не убежишь.
Однако, клир и паства РПЦЗ, по-прежнему, всё ещё продолжали оставаться на значительной духовной высоте. Клир и паства, как до войны, так и после, состояли из подавляющего большинства православных и антикоммунистически настроенных людей. Это было так, даже, несмотря на естественную частичную потерю первой волны русской иммиграции. Исход мировой войны восполнил ряды РПЦЗ новыми противниками советского строя, а так же и теми, кто, по воле случая, оказался за пределами СССР. Правда, вера нового притока пасомых уже отличалась от веры, ушедших из земной жизни, старых иммигрантов. Что понятно и легко объяснимо. Так как и рождение, и долгая жизнь в СССР не могли не сказаться на силе веры и на их духовном, и морально-нравственном состоянии.
Итоги мировой войны, для всего Православного мира и для РПЦЗ, в частности, оказались печальными, а то и вовсе, плачевными. «Крен» в сторону еврейского гуманизма, от Православия к интернационализму и толерантности, обозначился явно и безповоротно. Этот «крен» поспособствовал мировому масонству создать в 1948 году управленческую антихристианскую структуру, под названием – «Всемирного Совета Церквей» – прообраза будущей церкви антихриста.
Несмотря на приток новых членов, РПЦЗ лишилась своих обширных канонических территорий. Лишилась старой и испытанной паствы. С приходом коммунистических режимов в Восточную Европу, Китай и страны Юго-Восточной Азии, члены РПЦЗ вынуждены были иммигрировать в другие сопредельные страны или перейти на нелегальное положение, то есть уйти в катакомбы. Не обошлось и без страшных трагедий. Православные русские люди Российской Духовной Миссии в Китае, далеко не все последовали за Святителем Иоанном Шанхайским. Как это часто в жизни случается, большинство из них, поверив своим епископам отступникам и лживой советской пропаганде, приняли гражданство СССР и почти в полном своём составе, тут же попали в «мясорубки» северных сталинских лагерей.
По понятным причинам, волна новой русской иммиграции уже не имела такого антиассимиляционного иммунитета, как их предшественники. Поэтому, физическая и духовная ассимиляции стали потихоньку подтачивать РПЦЗ изнутри. И это явилось, едва ли ни основной бедой Русской Зарубежной Церкви. Апостасийные процессы усиливали давление на Церковь, а Её епископат, священство и паства уже не могли им успешно противостоять и не могли их сдерживать.
Особенно страшным и губительным для Церкви стало постепенное духовное падение епископата. Епископат РПЦЗ мировая апостасия развращала и искушала без спешки, и с присущей ей умелостью и осторожностью. Архиереи с трудом поддавались на её бесовские искушения. И далеко не все епископы отходили от исповедничества и правильной веры. Однако находились и такие владыки, которые легко искушались и сразу же, попадали в её пагубные сети.
На Западе и сегодня пытаются обелить, и представить в лучшем свете, деятельность архиепископа Антония (Бартошевича). Изо всех своих сил, его верные последователи и ученики, стараются выдать своего духовного поводыря - волка в овечьей шкуре - за тихую и мирную Божью овечку. Сами погрязли в духовной слепоте и расколах, мечутся из одного бесовского угла в другой, но всё туда же, лезут в толкователи церковной истории и учителя. Страшные дела архиепископа Антония Женевского говорят сами за себя. И они не нуждаются в комментариях. Одни лишь его архиерейские рукоположения таких одиозных людей, как: Варнавы (Прокофьева), Лазаря (Журбенко), Марка (Арндта), чего только стоят.
Выдающийся богослов и церковный писатель Зарубежной Церкви архиепископ Аверкий (Таушев) Сиракузский и Троицкий (+1976 г) в своей статье «Боже, милостив буди нам, грешным!» так писал о наступающем шествии мировой апостасии.
«Мы уже дожили до того поистине страшного и жуткого времени, когда почти все уже капитулируют перед победно-шествующим в мiр богоборческим сатанизмом, кое-где еще так или иначе маскирующимся, ради удобнейшей подготовки царства Антихристова, когда должна будет начаться уже неприкрываемая кровавая борьба во всем мiре с истинной верой и Церковью Христовой».
И дальше, в этой же статье, владыка Аверкий продолжает.
«Только одна наша русская Зарубежная Церковь пока еще стоит на пути у этого богоборческого сатанизма. Вот где и кроется причина той страшной злобы, которая в настоящее время готова со всей силой обрушиться на нее!
Предпринимается все возможное, чтобы сломить позиции Русской Зарубежной Церкви. В самое последнее время выпущена в свет даже целая книга с целью доказать «неканоничность» ее существования. Вероятно, и сам Антихрист, когда явится, будет так же искусно орудовать канонами. Раньше у нас славились таким обращением с законами иные мастера, почему и явилась в нашем народе остроумно-ядовитая поговорка: «Закон — что дышло: куда повернешь, туда и вышло». Вот точно таким же образом теперь недобросовестные люди, продавшие свою совесть врагам Христовой веры, орудуют и церковными канонами».
Различной «литературы», «порочащей» РПЦЗ, позднее, было выпущено много. И не только об РПЦЗ, но и обо всей Поместной Русской Церкви. Многотиражно выпускаются такие книги и в наше время. И что удивительно, часто пишутся они, как раз, теми же самыми людьми, кто получил от Русской Зарубежной Церкви священническую и архиерейскую преемственность. Такая у них получается «благодарность». Сначала преемство, а потом уже «прозрение».
Все эти книги и статьи написаны на греховных фактах отступления зарубежных иерархов от чистоты веры и православного благочестия. К сожалению, грехи таковые случались. Но не они определяли церковную каноничность (как это теперь пытаются нам доказать слишком рьяные критики) и не они являлись критерием истины, и благодатности РПЦЗ.
Многие оппоненты РПЦЗ в своих критических трудах, не редко, ссылаются на свидетельства катакомбного старца Епифания (Чернова). Этот старец, побывав в гостях у всё того же архиепископа Антония (Бартошевича) Женевского, вдруг, сделал вывод о падении всей Зарубежной Церкви и второпях, перебежал в одну из греческих церковных юрисдикций.
Там он, видимо и нашёл спокойствие, и спасительное утешение.
Многое, что написано в свидетельствах старца Епифания – правда. Однако и далеко не всё. Главная же его ошибка в том, что на одном или двух негативных примерах, он сделал безапелляционный вывод обо всей Зарубежной Церкви. Поспешность такого вывода и торопливость ухода к грекам, прямо указывают на его духовную ущербность, а то и бесовскую прелесть.
Отступления и предательства архиереев двадцатого века (а потом и двадцать первого века) значительно пополнили ряды преисподней. Сбылись о них пророческие слова преподобного Серафима (Саровского). Архиереи и в самом деле, так онечестивились, что своим нечестием превзошли многих падших людей прошлого времени. После войны, полтора десятка архиереев Зарубежной Церкви перебежали на сторону советской власти и Московской патриархии. Они известны. Но называть их не стану. Некоторые из архиереев долго колебались. И всё бегали туда и обратно.
Не случайно митрополит Анастасий (Грибановский) завещал не иметь со священниками Московской патриархии никакого общения, даже и на бытовом уровне. И такую строгость можно понять. Ведь, именно, в годы его первоиераршего служения исход архиереев в погибель обрёл небывалую частоту. Стойких и преданных Богу епископов оставалась не так уж и много.
Хотя, на фоне Московской патриархии и всех остальных апостасных церквей, Русская Зарубежная Церковь, благодаря архиепископу Иоанну (Максимовичу), митрополиту Филарету (Вознесенскому), архиепископу Аверкию (Таушеву), архиепископу Нафанаилу (Львову) и архиепископу Антонию (Сенкевичу), всё ещё держалась на приемлемой духовной высоте.
С их же уходом из земной жизни, больше уже не оставалось никаких видимых препятствий для ускоренного падения РПЦЗ и слияния Её с Московской патриархией.
После смерти митрополита Анастасия (Грибановского), последовавшей 9/22 мая 1965 года, епископат Русской Православной Церкви Заграницей разделился на две равные половины. Вначале, он разделился по выборам третьего Первоиерарха РПЦЗ в 1964 году, а затем уже разделился и по идейно-церковным, и вероисповедным мотивам. Пропасть между этими двумя архиерейскими группами постепенно разрасталась, а количество епископов исповедников, с течением времени, уменьшалось. Изменялся в худшую сторону не только епископат РПЦЗ, но и весь Её церковный клир, и вся паства.
До прихода к власти последнего вождя КПСС М. Горбачёва, Зарубежная Церковь прожила ещё целых два десятилетия. И назвать их спокойными, и мирными трудно. «Железный» занавес с обеих сторон продолжал ещё сдерживать еврейскую иммиграцию. Но не так уже прочно. Советские евреи, всё чаще и чаще, «просачивались» через него. А «просочившись», они нередко объявляли себя крещёными и сходу вливались в приходы РПЦЗ. Там они быстро занимали лидирующее положение. А самые настырные из них, вскоре становились священниками. Такое положение дел не могло не сказаться на духовном ослаблении РПЦЗ.
«Перестроечные» процессы в Советском Союзе, а затем и скорая победа российской еврейской демократии, открыли «железный занавес». И поток новых иммигрантов не заставил себя долго ждать. Советские люди хлынули в «свободный мир» с радостью досрочно освобождаемых заключённых. Многие переселенцы уезжали в Европу и Америку не по идейным соображениям, а в надежде быстрого обогащения или хотя бы, частичного улучшения своей материальной жизни.
Значительная их часть состояла из вчерашних прихожан Московской патриархии. В духовно-нравственном отношении эти люди ничего здравого и православного с собой не несли. Вскоре, они и заполонили опустевшие приходы Зарубежной Церкви, привнеся в них дух советско-еврейского интернационализма и межконфессиально-экуменической толерантности.
В семидесятые, восьмидесятые и даже девяностые годы прошлого века, в России ещё сохранялась мощная духовная оппозиция к советской власти и Московской патриархии. Многие верующие люди в России возлагали большие надежды на Зарубежную Церковь. На Её помощь и на Её скорый и неотвратимый приход в пределы бывшей Российской Империи.
И Зарубежная Церковь, хотя и с некоторым запозданием, в Россию пришла.
Однако пришла Она совсем не таким ожидаемым образом. Пришла не с миссионерско-просветительскими проповедями и не с лидерско-поводырскими настроениями, а с хиротонией недостойных епископов, с непонятным отношением к Московской патриархии. Пришла с экклезиологической (киприанитской и не только) ущербностью и незнанием российских особенностей жизни. Пришла с неумелым врачеванием нашего духовного состояния. И ещё многим и многим другим, таким же неуместным и вредоносным. Что, в итоге, безвозвратно отторгло и отвернуло от Неё множество прихожан.
И случилась такая беда по вине тогдашнего епископата РПЦЗ, во многом уже утерявшего православную ориентацию и уже шедшего не к Богу, а остановившегося в раздумьях и вскоре повернувшего свои стопы в обратную сторону.
В девяностые годы оставались, пожалуй, лишь два духовных авторитета, в полной мере ещё не утерявших способность к борьбе и надежду на церковное возрождение. А если и не возрождение, то, хотя бы, приостановление или удержание его от столь стремительного падения. Я имею в виду протоиерея Льва Лебедева и епископа Григория (Граббе). Отец Лев, всё ещё, возлагал надежды на Зарубежную Церковь, а епископ Григорий, наоборот, надеялся лишь на духовное возрождение России. Протоиерей Лев Лебедев в своих действиях и рассуждениях опирался (как ему казалось) на полное и глубокое знание российской жизни, а епископ Григорий (Граббе) - на точно такое же знание жизни зарубежной.
В 1994 году отец Лев, в письме к матушке Анастасии Шатиловой, родной дочери епископа Григория (Граббе), анализируя российскую церковно-приходскую жизнь и наше с вами духовное состояние, в частности и с горечью писал.
«…Поначалу радовало всех (и меня!), что воистину «как грибы после дождя» стали возникать общины и общинки СРПЦ [483]. Но потом выяснилось, что эти грибы большей частью [484] – поганки, или мухоморы. Выяснилось, что массового перехода нет и не предвидится. Потому что, как выяснилось, нет больше вообще русского народа, а есть «русскоязычное население», в котором начисто утрачены начала совести, правды, а если некоторые останки их сохранились, то нет уже общего сознания своего духовно-национального единства. Нет и веры. Выяснилось, что не только общая жизнь России, но и церковная жизнь, в том числе и наших общинок СРПЦ – это помойная яма, где живут только крысы самолюбия, тщеславия, корыстолюбия, зависти, идолопоклонства, идиотизма, сплетничества, взаимных раздоров, ненависти, неприязни и всяческого беззакония!
«Кругом измена, и трусость, и обман!». Кругом, то есть поголовно во всех. Ну, пусть не поголовно. Пусть ещё можно найти некие как бы островки и веры и русского национального сознания. Ведь нынче на свалках и помойках находят немало ценного, случайно туда попавшего. Есть даже коллекционеры, регулярно посещающие свалки, и находящие там подлинные произведения искусства, антиквариат, который после недорогой реставрации может ещё служить украшением жизни до конца мира!..
В остальном же всё – мёртвый, разлагающийся труп…» [485].
Вот так остро и безапелляционно рассуждал отец Лев.
А владыка Григорий (Граббе), наоборот, сильно обидевшись на свою отставку от Синодально-канцелярских дел и полностью разочаровавшись в Зарубежной Церкви, не столько рассуждал, сколько действовал. И действовал совсем по-другому. Поддавшись чарам и обаянию епископа Валентина (Русанцова) Суздальского, владыка Григорий благословил его на раскол. Письмо матушке Анастасии Шатиловой, как раз и было написано отцом Львом по этому поводу.
Что из всего этого получилось теперь хорошо видно.
И всё же, правей (если можно так выразиться) оказался епископ Григорий. Его упрёки и даже обвинения в адрес митрополита Виталия (Устинова) и всех остальных епископов Зарубежной Церкви в том, что они не сумели вовремя поддержать, наладить, устроить в России церковное развитие, что епископат упустил исторический момент и тому подобное, далеко не безпочвенны и во многом справедливы. Благословение суздальского раскола они не оправдывали, но с достаточной ясностью указывали на утерю архиереями РПЦЗ православной ориентации. Пусть и не всех, но подавляющего большинства. Что и подтвердилось затем их дальнейшим сползанием в объятия Московской патриархии.
Выше я уже упоминал, что только в одной Воронежской области насчитывались тысячи катакомбников, никогда ранее не признававших Московскую патриархию. Не так мало их имелось в Липецкой, Тамбовской и многих других российских областях. Протоиерей Лев Лебедев не совсем верно оценивал российский православный потенциал. В его подсчётах он ошибался. Зато давал вполне объективные характеристики российским епископам - ставленникам РПЦЗ.
В этом же самом письме он о них прямо писал.
«… Епископ Валентин – не из тех случайных ценностей, что попали на свалку и могут ещё быть реставрированы. Он из тех червей, которые только и могут существовать и успешно действовать в мёртвом, разлагающемся организме. Успех успеху – рознь. Если уж у вас за границей удачливый администратор, как Вы пишете, вызывает подозрения, то у нас таковой не вызывает никаких подозрений; мы просто точно знаем, что он негодяй и продажная душа, т. к. в нашей обстановке тотального беззакония успешно действовать может только бесчестный беззаконник и никто другой!… Оставьте это лишённым духовного разума и церковного правосознания Валентину, Лазарю и иже с ними. Это слепые вожди слепых...» [486].
Столь убийственная характеристика отца Льва подошла бы не только российским преосвященным, включая и нынешних возглавителей «осколков» РПЦЗ, начиная от одессита Агафангела (Пашковского) и кончая кубанским Вениамином (Русаленко), но и их зарубежным собратьям.
Всеобщее отступление в РПЦЗ нарастало и никто, из последующих Первоиерархов, его уже не смог удержать. Ни митрополит Филарет (Вознесенский), ни митрополит Виталий (Устинов). Митрополит Филарет пытался это сделать в большей степени, а митрополит Виталий в меньшей, но, однако ж, пытался. Последним на пути отступления оказался отец Лев Лебедев.
Но и его они вскоре убрали.
Несмотря на некоторые с ним несогласия, полагаю, что, оставайся отец Лев живым и до сего дня, наша церковная жизнь могла бы пойти по совершенно другому пути. Именно, такого консолидирующего и такого авторитетного человека, как отец Лев, нам сегодня всем не хватает. Отец Лев многое понимал правильно, а главное, он не закосневал в своём самомнении. Мог впитывать новое. Мог быстро учиться. И мог поменять свою точку зрения на мировоззренчески правильную.
Такие духовные качества присущи мало кому из людей. Некоторые ему тайно завидовали. Уж, это я знаю! Ревновали к известности и таланту. Шушукались по углам. И не видя собственного «бревна» в глазу, указывали на его слабости и грехи. Всё это, если ему и мешало, то не настолько, чтобы не оставаться величественным и много значимым для Церкви и всех остальных, человеком.
Очень мешала Московской патриархии Зарубежная Церковь. Мешала так, что она готова была идти на самые гнусные преступления, лишь бы добиться главного – падения Зарубежной Церкви.
И Московская патриархия шла на эти преступления, используя всё, что ни попадётся под руку. Не один отец Лев пал при загадочных обстоятельствах. В памяти ещё осталось многое. Вспомните и канцерогенные вещества в питьевой воде монастырского Джорданвилля, захваты храмов и монастырей с помощью милицейского ОМОНа, и убийства священников, клевету, запугивание и тому подобное. Всего и не перечесть. Разве это было (и всё ещё есть) давно?
Впрочем, Русская Зарубежная Церковь мешала не одной только Московской патриархии. Всей мировой апостасии РПЦЗ стала чужда и ненавистна. Что называется, стала поперёк горла. И мировая апостасия обрушилась на Неё всей своей мощью. Если после войны, Русская Церковь всё ещё была нужна ей, как условный духовный противовес, используемый в ходе холодной войны, то с падением коммунистического режима в СССР и воцарением еврейской власти в России, Зарубежная Церковь оказалась уже не у дел. Из временного и, в общем-то, нейтрального союзника, Она превратилась во врага. А врага, как известно, или уничтожают, или пленяют. После недолгих дебатов и консультаций, сошлись на втором варианте.
И он устроил обе стороны.
Как показал опыт зарубежной жизни в условиях относительного спокойствия, материального благополучия, иноверного и инородного окружения, ассимиляционные процессы православной паствы практически неизбежны. А, следовательно, неизбежно и духовное ослабление. Чуждая среда обитания, иноязычная, не имеющая православных корней, в конце концов, истощает православный дух и (за редкими исключениями) воспитывает человека по-своему, воспитывает его более склонного к грехотерпимости, толерантности и прочей масонской идеологической направленности.
Русским людям на чужбине приходилось очень трудно. Приходилось приспосабливаться к местным условиям жизни. Многим жертвовать ради спокойствия и принятия в общество. Посещение же православного храма по воскресным дням далеко не всегда восполняло тех духовных потерь и душевных переживаний. И русский человек, всё дальше и дальше, отходил от чистоты православной веры, и становился другим, очень похожим на всех остальных людей.
За границей я встречал представителей второго поколения послевоенных русских иммигрантов уже не владеющих русским языком. А об их детях и говорить нечего. Как правило, не знающие русского языка, имеют совсем другие интересы и в православные храмы они не ходят. С русскостью их связывает только русская бабушка или дедушка. И это в лучшем случае.
Мы сегодня часто друг друга спрашиваем, почему же РПЦЗ так лояльно относилась к Московской патриархии? И что было бы, признай РПЦЗ Московскую патриархию безблагодатной? Не только спрашиваем, но рассуждаем и спорим.
По разному относились к сергианам и Первоиерархи РПЦЗ.
Митрополит Антоний (Храповицкий) всё уговаривал митрополита Сергия (Страгородского) одуматься и покаяться. Уговаривал отойти его от безбожной власти и принять мученический венец. Так и не уговорил. Митрополит Анастасий (Грибановский) относился к Московской патриархии более жёстко, но без, каких бы то ни было, церковно-соборных последствий. Митрополит Филарет (Вознесенский), будучи и сам долгое время в патриархийных структурах, тоже, не смог прямо ответить на вопрос о благодатности сергиан. Митрополит Виталий (Устинов), одно время, считал наличие благодати, не во всей Московской патриархии, а лишь, у её благочестивых и ничего не ведающих о грехах епископата, батюшек.
А у всех остальных епископов Зарубежной Церкви разброс мнений, по этим вопросам, колебался не хуже часового маятника, от отрицания до признания. Согласно своим убеждениям они и поступали в церковной жизни. В последнее время, дело дошло даже до открытого диалога с функционерами Московской патриархии, вплоть до самого лжепатриарха.
Бог весть, как бы оно всё повернулось, поступи РПЦЗ по примеру Катакомбной Церкви и признай таинства сергиан безблагодатными. Гадать мы не будем. И того, что уже произошло, назад не воротишь, да и церковную историю заново не перепишешь.
Мы и не пытаемся.
Смерть Зарубежной Церкви последовала не 2007 году, а в году 2001, сразу же после выдворения на покой Первоиерарха РПЦЗ митрополита Виталия (Устинова).
От РПЦЗ (как и от Катакомбной Церкви) Российская Православная Церковь взяла всё самое наилучшее и спасительное. Нас сегодня пробуют заставить взять и Её многочисленные «традиционные» ошибки. На ошибках РПЦЗ следует поучиться. А если их взять с собой, то недалёк тот день, когда мы тоже окажемся под всевластным «сапогом» Московской патриархии. Пример падения РПЦЗ, всё ещё, свеж и он перед глазами. Об этом надо всегда помнить, учитывать и никогда о нём не забывать.
Свою миссию Зарубежная Церковь исполнила. Она передала нам преемство Апостольской благодати. Это главное. И для надежды спасения предостаточно. Наша задача - не повторить Её ошибок. И не отклоняясь от православного курса, идти по исповедческому пути. В условиях нарастающей мировой апостасии, это очень сложная и трудная задача.
Помоги нам Господь!
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. О чём не досказал
«Лучше видеть глазами, нежели бродить душею».
(Книга Екклесиаста или Проповедника. 6:9).
Скоро книга заканчивается. Если, Бог даст, допишу эту главу и ещё одну, и на этом - всё. Писалась она менее года. Многое я упустил. Ещё больше упустил специально (от греха и стыда подальше). Многое написал не так, как хотелось бы. Отдельные главы требовали более тщательного и пристального исследования. А некоторые из них могли бы претендовать даже и на отдельные книги. Вместить же книжный объём информации в одну лишь главу, не представлялось возможным. Да и не мастер я литературных сжатий. Торопился успеть и кажется, слава Богу, успеваю. Если, что, кому не понравилось в этой книжке, прошу прощения! Или кого обидел, тоже, прошу прощения! Писалось от души и от сердца. Как на душу легло, так и писалось. Теперь, вот, когда закончу, перейду к другим делам. Их много и все они требуют повышенного внимания и участия.
Помоги мне Христос!
Прошу и ваших молитв!
Я обещал поговорить с вами о литературе. С удовольствием своё обещание выполняю. Как вы уже поняли, к литературе я отношусь с особым почтением и вниманием. Если бы ни Господь Бог и ни литература, моя грешная жизнь могла бы сложиться и по-иному.
То есть, ещё грешней.
Читать книги я начал довольно поздно. А по нынешним меркам, так и вообще, поздно. Сегодня дети кажутся умней и развитей, чем раньше. Может быть, это, просто, кажется. В моё же время, было многое по-другому. Как только я научился читать, так сразу же и начал читать детские книги. Полюбил чтение, как ничто другое. Вот, с тех пор и читаю.
А теперь и пишу.
У русского человека душа особенная. Детская. Русский человек больше не от мира сего, чем другие народы. Всякие люди встречаются среди нас, это верно. Но, всё же, некая наивность, романтичность, безпечность, тяга к сказочности и всё больше, к миру небесному, а не земному - нам присущи в наибольшей степени. И отрицать этого невозможно. Да и корни у нас крепкие и здоровые. Корни у нас многовековые – православные. Не поэтому ли русские святые, русская литература и искусство столь особенные и притягательные? А русская иконопись! Разве есть, где в мире, нечто подобное?
Или я преувеличиваю?
Наша литература стоит особняком в мировой литературной сокровищнице. Кто может сравниться по силе таланта и богатству великорусского языка с Пушкиным, Лермонтовым, Достоевским, Гоголем или теми же, Чеховым, Горьким или Толстым?
Мало, кто из писателей и поэтов.
Русская литература, как и многие остальные наши искусства, к сожалению, внесла свою лепту в расшатывание устоев Российской Империи. Писатели и поэты не избежали вольнодумной заразы. Многие заразились ею и потом выплеснули её на свои художественные литературные «полотна». Читайте, мол и заражайтесь тоже. Героико-патриотических произведений писалось очень и очень мало.
На память приходят лишь «Сказки» Пушкина, «Бородино» Лермонтова, «Князь Серебряный» Алексея К. Толстого, «Фрегат Паллада» Гончарова и ещё пара или тройка подобных произведений. А всё остальное - сплошное пессимистическое нытьё и показ на всеобщее обозрение, и осмеяние (или умственную и душевную «кручинушку») «дна» Российской Империи. Взять, хотя бы, того же, «Ревизора» Гоголя или его «Мёртвые души». От их прочтений возвышенного и патриотического порыва у юношества уже не получится. Как не получится их и от прочтения «Горя от ума» Грибоедова.
Я уж не говорю о многочисленных рассказах и пьесах Чехова. В них мастер пера уже открыто высмеивает «изъян» русской души и «пороки» православно-монархической государственности. Тонко и умело высмеивает. Даже не по-жидовски, а по-сатанински.
Тургенев, Толстой, Некрасов, Горький, Короленко…
Не зря, ведь, Ленин назвал Толстого «зеркалом русской революции». Правильно назвал. Зеркалом революции он был и таковым навечно остался. Впрочем, довольно критики и читательской суеты. Не для того я начал эту главу, чтобы только обрушиться с критикой на наших знаменитых писателей и поэтов. Поговорим лучше о другом и более приятном.
Поговорим о поэзии.
Кто из нас не пробовал себя в этом изящном литературном жанре? Редко, кто. А кое-кто и до сих пор, себя пробует. Поэзия – творчество не греховное. Если, конечно, это настоящая поэзия и дух в ней не сатанинский, а Божеский.
Самый поэтичный из всех поэтов и самый знаменитый из них – царь Давид.
Его «Псалмы» - вершина Божественной поэзии. И кроме царя Давида её больше никто не покорял. Несогласных прошу не спорить. Несогласие – уже грех. Ибо, сказанное мною – правда. Псалмы царя Давида прошли испытание временем и выдержали всё на свете. Святость их непреложна и непререкаема. Чтение «Псалтири» - спасительно-молитвенное удовольствие и особое наслаждение.
Многие святые люди писали стихи. Православные. Святой Иоанн Дамаскин, например. Оптинские старцы, тоже писали. Сочиняли стихи и в древности, и в более ранние века. Я не стану останавливаться на всей мировой поэзии. Что нам до неё. Если писать о Гомере, Вергилии, Петрарке, Данте, Шекспире или Байроне – не хватит ни сил, ни времени, ни терпения.
Да и не ахти, какой специалист я по ним.
В русской литературе (это моя личная точка зрения и я её никому не навязываю) есть два поэтических адаманта (бриллианта) – Пушкин и Лермонтов. Все остальные поэты уже иного качества и порядка. Их много, но с Пушкиным и Лермонтовым они не конкуренты. И сияние - не то, и сила духа, и глубина мысли – не та. Кто-то ближе к ним, кто-то дальше, не в том суть.
Весь девятнадцатый век и начало двадцатого века можно по праву считать чисто русским поэтическим явлением. Начиная с Ломоносова и со старика Державина. А потом и Давыдова, Баратынского, Кольцова, Некрасова, Фета, Блока, Есенина …
С приходом в поэзию Маяковского, Пастернака, Мандельштама, Бродского, Самойлова… - открылась эра советско-еврейской поэзии.
Разница не только в духе, но и в стиле письма.
Советско-еврейская поэзия отличается особой мудрёностью. И я бы сказал ещё проще - заумностью. Виртуозность поэтического слова, в этой поэзии, соседствует, а то и предопределяет ещё и некое, поисковое начало, которое необходимо всё время искать и что называется, напрягать мозги. Кому-то такая поэзия по душе, а кому-то и нет. Я не критикую. Ради Бога! Здесь другое - эстетическое и вкусовое. А о вкусах, как известно, не спорят. Тут, уж, кому и что нравится.
Упомянул я всё это к тому, что советско-еврейский поэтический стиль, стал с годами, всё сильнее и сильнее, навязываться и пропагандироваться. По крайней мере, в последние - 70 – 80 лет. И кто писал, и пишет стихи в классическом русском стиле - считается дальше от поэзии. А кто пишет в стиле советско-еврейском – считается к поэзии ближе.
И дело тут не в национальной принадлежности. В классическом русском стиле писали стихи и евреи. К примеру, К. Симонов и многие другие евреи. Как и наоборот. Писали и русские поэты в советско-еврейском стиле. Дело не в национальной принадлежности, а в справедливости.
Сам я начал писать стихи довольно давно. Но публиковался мало и всегда не очень охотно. Всё, как-то, стеснялся быть на виду, на слуху и на людях. Полагал, что поэзия – штука, скорее, сугубо личная, чем наглядно-общественная. От количества написанного материала в поэзии ничего не зависит. Поэтическая продукция – товар штучный. Можно исписать целые горы бумаги и всё без толку. А можно написать и одно малюсенькое стихотворение, зато, стоящее. Как и во многом другом по жизни, качество стихов (или поэм) - имеет определяющее значение. Это так. И Америку я не открываю.
Пишутся стихи и поэмы по-разному.
Я, например, пишу, когда они пишутся. Не выдавливаю из себя их по строчке. И не мучусь по ночам в поисках рифмы или нужного слова. Хуже всего, когда человек старается что-то написать. Стихи и поэмы не пишутся мыслью. Они пишутся сердцем и душой. И такое утверждение верно. Оно чуждо пафосу или чему-то такому ещё. Если пишется – пиши.
А если не пишется – лучше забросить это дело и оставить его на потом.
Немного ниже я приведу на ваш суд несколько своих стихотворений, написанных за последние полтора-два месяца. Большинство и поэм, и стихов, я сжёг. Некоторые опубликовал. Часть из них раздарил. Семь или восемь стихов вошли в песенный диск.
Вот и всё моё поэтическое творчество. А, поточнее сказать, так и вовсе, не творчество, а пустая трата времени или никчменное увлечение. Знаю людей очень болезненных к критике. Для них критика собственных стихов, едва ли, не смерти подобна. Казалось бы, если плохо написано – значит плохо. И о чём тут спорить? Бог даст, напишешь и лучше. Ан, нет. Эти люди требуют отзывов о своих поэтических произведениях, как о покойниках - или ничего плохого, или только хорошее.
Раньше я поэзию не очень любил. А если точнее, то и вообще, не любил. Разве что, за исключением - «Сказок» Пушкина» и «Конька Горбунка» Ершова [487]. В детстве и отрочестве предпочтение было отдано прозе. Стихи заучивал нехотя, из-под палки. И учил их, что называется, через пень колоду. А потом тихо сидел на уроке и молился Богу, чтобы, не дай Бог, не вызвали отвечать.
Заучивание стихов предполагало наличие свободного времени. А откуда его взять, когда оно, всё без остатка, уходило на футбол-хоккей или другие мальчишеские игры и увлечения. Поэтому стихи не любили все мои приятели одноклассники.
Умение читать стихи и поэмы наизусть, в царское время считалось признаком утончённой образованности и входило в правила хорошего тона. Сейчас многое поменялось. На поверхность бытия вышли другие ценности и из других правил.
И всё же, приятно общаться с человеком, знающим поэзию и способным что-то вспомнить, и прочитать без книжной подсказки.
| Много в России троп. Что ни тропа – то гроб. Что ни верста – то крест. До енисейских мест Шесть тысяч один сугроб. |
+
Поезд на всех парах. В каждом неясный страх Видно, надев браслет, Гонят на много лет. Золото рыть в горах.
+
Может случиться с тобой. То, что достанешь киркой, Дочь твоя там, вдалеке, Будет на левой руке Перстень носить золотой.
+
Эти отрывки из поэмы Сергея Есенина «Поэма о 36» [488], а потом и всю поэму целиком, прочитал мне в горах Якутии авторитетный старатель-рецидивист - дядя Коля. Так я его тогда называл. Имя и прозвище - помню, а фамилию – нет. Прочитал без бумажки и наизусть. И прочитал так, что слёзы навернулись на глаза. Какой, там, навернулись! Плакал я от всей души, никого, не стесняясь и как малое дитя! Поэма Сергея Есенина и дядя Коля, запомнились на всю жизнь. Уж больно всё к месту сошлось. И безкрайние горы. И каторжный советский труд, пусть и без браслетов.
И золото.
Вот вам и утончённая образованность с признаками хорошего тона. Как видно, уголовное прошлое глубокому знанию поэм и стихов Есенина нисколько не помешало. По мирской жизни встречались мне и другие люди, прилично знающие не только творчество, но и личную жизнь поэтов. Чаще всего, наизусть читались стихи Пушкина, Лермонтова, Есенина, Блока...
Очень много имелось в обиходе магнитофонных кассет с песнями Высоцкого. В советское время он считался запрещённым поэтом, поэтому к нему и тянулись люди с особенной теплотой. Из усиленно рекламирующихся советскими властями поэтов не любили никого. Ни евреев, ни русских. Жирная и славная жизнь поэту (как и монаху) не подходит.
Томительна она и губительна…
Настоящие поэты, как и настоящие монахи, люди не от мира сего. И такое сравнение, пожалуй, уместно. Мы часто смотрим и на тех, и на других не глазами понимания, не глазами братской любви и сострадания, а глазами своего же порока и осуждения. Поэтому духовный мир поэта (или монаха) остаётся за «кадром», остаётся неведомым и скрытым. На поверхность земного бытия выходят совсем другие человеческие качества. И чаще всего, мы их и видим.
То есть, видим не духовное и возвышенное, а то, что «торчит» на виду. Видим сенсационное и человека порочащее явление.
Дурная слава и до сей поры, тянется за многими известными поэтами. При жизни они от неё редко бегали. А, иной раз, сами же и подогревали. Бывало, что такая слава складывалась не без оснований. Грехов у известных поэтов хватало.
И кто-то в них каялся, а кто-то грехи воспевал.
Беззащитность поэта, от сильных мира сего, известна и даже немного изучена. Редко кто из поэтов доживал в богатстве и славе до старости. За правду и смелость их бросали в узилища. Возводили на эшафот. Подвергали гонениям, публичным казням и осмеяниям. А за лесть и угодничество осыпали почестями и золотом. И почти всегда их приветствовали, и узнавали люди на улицах.
И почти всегда им завидовали.
Пушкина убили по приказу масонов. Теперь это многим известно. Десятки поэтов убила советская власть. Лермонтова лишил жизни Мартынов. Но здесь не всё так гладко и однозначно. Михаил Юрьевич слыл человеком вспыльчивым и горделивым. По природе и воспитанию, он и был таковым. Его высокомерие и пренебрежение к провинциальным людям каждому бросались в глаза. Эти характерные качества и переполнили чашу терпения простого русского офицера Мартынова.
Мартынов долго терпел. Но, однажды, не выдержал публичных насмешек и издевательств поэта. Вызвал поручика Лермонтова на дуэль и там его застрелил. И ничего не поделаешь. Нравы дворянские тогда были такими. К учению Церкви уже мало кто и прислушивался. И всё же, не монархия извела гениального поэта с белого света, как нам всё время вбивали в голову на уроках литературы, а сам поэт извёл себя из этой жизни. Почему? Да, потому, что жизнь ему опостылела и надоела. Поэт давно искал собственной смерти. И дуэль с Мартыновым не была первой. Лермонтов сам сделал свой безповоротный и окончательный выбор.
Дай нам Бог смотреть на поэтическое творчество человека без излишних предвзятостей и учёта его личных качеств. Пусть и качеств греховных, и далеко нелицеприятных. Грехи и пороки поэта – удел не нашего с вами стороннего разбирательства и ума, а удел личного духовника и Господа Бога. От того, что у Лермонтова имелся столь скверный и заносчивый характер, его парус одинокий и со временем, не потускнел и не почернел в тумане неба голубом.
Да и другие произведения тоже не стали от этого хуже.
Можно долго и довольно интересно рассказывать о крутых жизненных поворотах, и перипетиях известных русских поэтов. Есть люди, сделавшие на их биографии карьеру. И не в одной литературе. Написано уже столько книг, научных трактатов и монографий, что и голова может кругом пойти. Только мне, как-то, неинтересно было копаться в личной жизни русских поэтов. Я и не особо копался. А если и остались о ней какие-то крупицы информации, то пришли они не от моих собственных желаний или потугов, а пришли, как бы, случайно и совсем с другой стороны.
Что-то я слышал от друзей и знакомых.
А что-то перепало и досталось от газет, радио и телевидения.
Прошу прощения, немного отвлёкся и заговорился. Настало время, и для моих скудных творений. Написаны стихи в короткий срок. По этой же теме, хотелось написать и больше, но время распорядилось по-своему. Так получилось, что пришлось заниматься другими делами.
ДРУГУПорыв весенних наваждений, Через распахнутую дверь, Прошёл без тяжких осложнений, Уж, ты поверь. Писать стихи не перестану, Перо, бумага на столе, Пусть я пишу и не по сану, Зато, тебе. Судить не надо меня строго, Слова не впрок, но ты пойми, Осталось жить не очень много, Не осуди. Я виноват и грешен, знаю, Бедняк, убогий, не в чести, За свой позор, я мир прощаю, И ты прости. Не от Денницы совершенство, Цветочный запах не от тли, И не от зла моё блаженство, А от Любви. Господь простит. И я прощаю, Прощаюсь до Небесных мест, Крестом священным осеняю, На то и крест. И ухожу без сожалений, Без слёз, упрёков, суеты, В мечты божественных явлений, И простоты. +++ |
ЕЩЁ РАЗ О БЛАЖЕНСТВЕБлажен, кто верует в Христа, И на Голгофу правды ради, Шагает с чистого листа, Без сожаленья и награды. Кто духом нищ – блаженный тоже, Кто плачет, отмывая грех, И утешает его Боже За нас за всех. Кто кроток, милостив и чист, Кто миротворец и сын Божий, Кто по латыни не речист, И на святошу непохожий. Блажен, кто изгнан за Любовь, Кто милость дарит оппонентам, Кто отдаёт за други кровь, И неподвержен сантиментам. Кто жизнь готов свою отдать, Без предварительной оплаты За Русь – поруганную мать, За православные пенаты. Блаженны мы! Мы со Христом! Нам не нужна в парче одежда, Мы русская – святая голь, Земли последняя надежда, И не обуянная соль. +++ |
|
* Суета сует явилась не от Бога. О, Екклесиаст! Ты правду говорил. Завела в тупик лукавая дорога, И путь иной искать нам не хватает сил. Осталось лишь одно – упасть на косогоре, И суету сует, как грех, похоронить, И может быть, тогда притихнет наше горе, И заповедь Христа научит нас любить. |
|
|
НА РАССВЕТЕ По узенькой стёжке иду не спеша, По Божьей дорожке струится душа, Ногами ступаю босыми в росу, К любимому Богу себя я несу. Последние ночи, последние дни, Я с Русью прощаюсь и мы не одни, Пусть ветер – бродяга шумит в вышине, И Русь – бедолага со мной и во мне. В молитве покаюсь, отмою грехи, Вино не вливают в худые мехи, Слезинками очи свои омочу, «Прости меня, Отче» - в дороге шепчу. Прости меня, Отче, Владыка всего, Прости меня, Отче, за грех и за всё, За Русь под жидами, за смерть и за стон, За то, что годами разносится он. За то, что годами ношу я парчу, И в страхе жидовском о правде молчу. Прости меня, Господи, знаю и сам, Что скоро закончится весь этот срам. Поднимется витязь с землицы святой, Царь Православный, желанный, родной, И вся эта нечисть глистом изойдёт, И солнце над Русью такое взойдёт. Что очи ослепнут у наших врагов, Весь мир удивится на веки веков, И слава над Русью волнами пойдёт… Меня, уж, не будет, но будет мой род. Мне много не надо, о том не пекусь, Помру, когда Бог даст, за матушку - Русь, И если кто вспомнит вот эти стихи, Дай Бог, чтоб и вспомнил с винами мехи. + + + |
В АЛТАРЕВ любви томленья или страха Молитву Господу творя, Я в облачении монаха Вхожу под своды Алтаря. Здесь мир иной. И воздух тоже. Душа рыдает и поёт, Когда не я, а Ангел Божий, Свой возглас миру подаёт. Здесь и иконы. И лампады. Особый, не земной уют. Здесь очи сами без преграды, Слезинки покаяний льют. Здесь Бог живёт. Душа стремится Упасть в объятия Его, И эта вечность длится, длится… И нет прекрасней ничего. Престол. Известные святыни. Поодаль Жертвенник в углу. Нет у меня уже гордыни, Здесь я иной уже живу. Здесь я иной. И время трачу Совсем не так, как в том миру, Служу. Пою. Всё время плачу, И Бога, и людей люблю. + + + |
Вот такими вышли стихи.
Есть и ещё, но они уже не для этой книги. Поэзия меня никак не прельщает и ничуть не пьянит. Могу писать. Могу и не писать. И чаще всего, не пишу. По духовности проза уступает поэзии. Поэтическое слово имеет особенную силу и вес. А само слово ещё совсем не изучено. Несёт оно особый и часто мистический смысл. В странах Востока встречались адепты, которые могли одним словом убить человека. Оно и понятно - убивать и разрушать гораздо проще, чем созидать.
Созидает же – Бог Слово.
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» [489].
Так нам вещает в Святом Евангелии Апостол Иоанн Богослов.
Человеческое слово есть дар Божий. Оно отпечаток и образ нашего духа. Святые старцы советовали меньше говорить (пустословить), а всё больше, про себя, молиться и безмолвствовать. Можно согрешить и мысленно, и чувственно. Речь не о том, а о человеческом слове. Без языка слова не скажешь. А язык мой – враг мой. Распустишь его, так и скажешь, что-нибудь, обидное и непотребное. Скажешь и сам того не заметишь, как согрешишь и обидишь человека. Пусть и ненароком, но согрешишь и обидишь. Не зря же монахи брали на себя обет молчания. Их люди так и называли – «молчальниками».
Святой Апостол Иаков так пишет о слове: «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать все тело» [490].
И Сам Спаситель сказал: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» [491].
«Господи и Владыко Живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми» [492].
На земле мы прожили много лет. Не считая даже и времени рая. Как же, взросло Человечество! А толку-то? Куда мы продвинулись? Да и продвинулись ли? Наши сердца и души, как и прежде, черствеют в грехе. Внутри их витает теплохладность и маловерие. И до сей поры, мы не смогли увидеть в каждом человеке образ Божий. Не научились, по примеру святых старцев, считать себя последними из людей. Мы не живём, исходя из их спасительного христианского опыта. Только пытаемся полюбить и врагов. И у нас это так плохо выходит. Говорю не обо всех, а о тех, кто находится в Церкви Божьей.
Грех гордости и себялюбия сегодня искушает нас с особенной силой и страстью. И тому есть множество объяснений и подтверждений. Но дело не в них. Мыслю об истощении духа и веры, как о непреложном факте нашего предантихристова времени. Мир сошёл с ума и всё быстрее катится в пропасть погибели. Всё чаще и чаще, приходят в голову мысли - не скатиться бы вслед за миром самим. По немощи человеческой, хочется отойти, куда-нибудь, в сторону, ухватиться за «столп» Православия, закрыть глаза и уши, и смиренно молиться, ожидая Второго Пришествия.
Надеяться на свои слабые силы - греховно. Без помощи Божьей мы - в этом мире - никто. Потому и молимся, и уповаем на Его милость, и помощь Его.
Ложь и клевета за церковной оградой пытаются проникнуть и внутрь её. Самомнения, надуманности, вкупе со всей пестротой человеческой фантазии, часто затуманивают православное сознание верующего человека. Князь мира сего знает, как искушать немощных и маловерных людей. И он прекрасно видит все наши слабые стороны. Не получается в одном месте, заходит с другой стороны. И, в конце концов, добивается своего. Трудно бороться с искушениями и соблазнами. Но и без них нам нельзя. Ибо, с Божьей помощью, побеждая их, мы возрастаем духовно и поднимаемся выше.
С каждым годом жизнь становится тяжелее. Но и это время нам покажется великим благом в сравнении со временем антихриста. Вместе со всем миром нам ещё предстоит пережить трагедии Апокалипсиса. Лишь во времена прихода антихриста Господь укроет Церковь Свою.
«А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней» [493].
«И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змия и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени. И пустил змий из пасти своей вслед жены воду как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» [494].
До прихода антихриста остаётся мало времени. Он уже догоняет и дышит нам в спину. И его дыхание нельзя не почувствовать, и нельзя не заметить. Бояться не надо. Что будет, то сбудется. И будущего нам не миновать. А вот отодвинуть, с Божьей помощью, можно. Пост, молитва, всеобщее покаяние, праведные и Богоугодные дела, и любовь. Любовь к Богу и людям. Любовь не поддельная - фарисейская, а настоящая – мытарская. Если всё это станется, то Бог нас помилует и отодвинет приход антихриста. И быть может, замедлит всеобщий конец. Не как я хочу, а по воле Твоей, Господи!
Душа человеческая по природе своей христианка. Об этом грешно забывать. И трижды грешно кичиться своей праведной исключительностью, глядя на погибающих людей с циническими усмешками и равнодушием. Господь не оставляет нас всех Своей милостью. Он ещё дарит надежду на спасение падшим, заблудшим и иноверным людям. Солнце в небе восходит, всё ещё, на востоке. И оно ещё светит, и греет не для одних только нас - православных. И земля, по-прежнему, плодоносит ещё во многих и многих местах. И вода утоляет жажду каждого жаждущего человека.
И соль ещё солонит, и воздух для всех, и красоты земные…
Истина Божья не под семью замками хранится. Вера Православная видна и для зрячих, и для слепых. И затенять Её – смерти подобно. Да и не затенишь Её. Хотя и пытаются некоторые из не очень разумных, и особенно ревнивых и горделивых людей.
Один из виднейших церковных писателей и богословов двадцатого века – архиепископ РПЦЗ Аверкий (Таушев), в статье «Святая ревность», так писал по этому поводу.
«Но есть также и фальшивая, лживая ревность, под маской которой скрываются кипящие человеческие страсти – чаще всего гордость, любовь к власти и к почестям и интересы партийной политики подобные тем, которые играют ведущую роль в политической борьбе и которой не может быть места в духовной жизни, в общественной жизни Церкви, но которые, к несчастью, можно часто встретить в наше время и которые являются главными возбудителями всевозможных ссор и нестроений в Церкви. Сами те, кто их разжигает и руководит «политикой», часто притворяются борцами «за идею», но в действительности стремятся добиться лишь своих личных целей, стремятся угодить не Богу, но своему самодовольству и ревнуют не о славе Божией, но о своей славе и о славе своих сподвижников и членов своей партии. Все это, конечно, глубоко чуждо подлинной святой ревности, все это ей враждебно и является греховным и преступным, потому что компрометируют нашу святую веру и Церковь!».
Мы уповаем не на свои малые силы и не на свою немощность, а на Господа Бога нашего Иисуса Христа и на грядущего (если Бог даст) Русского Православного Царя. Многие наши сегодняшние церковно-исторические споры, большие и малые нестроения, с Божьей помощью, разрешит Православный Государь. И пророчества о том говорят. Российская Православная Церковь взяла на Себя ровно столько, сколько смогла понести. Всё остальное довершит Поместный Собор Российской Православной Церкви или Церковно-Земской Собор. И довершит уже при ином строе и времени.
Государь Собор соберёт и на этом Соборе всё и решится, и прояснится.
Дай, Бог, нам только дожить до этого времени! А не доживём - так и не беда. Доживут те, кто за нами последует. Смерть, сама по себе, не страшна. И бояться её нечего. Не мы первые уходим из земной жизни. Таков наш удел и такова воля Божья. Плоть из праха земного взята, в прах земной и вернётся. Бояться надо не кончины земной, а дел своих греховных и Страшного Суда за них.
Для Церкви Христовой одинаково опасны и неприемлемы крайние стороны жизни - как сектантская самоизоляция, так и широкий «христианствующий» либерализм [495]. Сектантской самоизоляции я вдоволь насмотрелся у русских «греков». Там её хватает с избытком. А о «христианствующем» либерализме или о, так называемом, объединении всех христиан в духе христианской любви, предельно ясно и чётко сказано архиепископом Аверкием (Таушевым), в статье «Церковь перед лицом отступления».
В ней владыка Аверкий нам поясняет.
«О каком подлинном единении всех христиан в духе христианской любви можно сейчас говорить, когда Истина почти всеми отвергается, когда ложь почти повсюду господствует, когда подлинная духовная жизнь среди людей, именующих себя христианами, иссякла и заменена жизнью плотской, жизнью животною, возводимой к тому же на пьедестал и прикрываемой идеей мнимой благотворительности; всякое духовное безчинство, всякую нравственную разнузданность лицемерно оправдывающей».
И всё же, эту книгу хочется закончить на оптимистической ноте.
Не пристало нам - православным христианам - унывать и посыпать голову пеплом. Да и само уныние есть уже смертный грех. Жизнь во Христе и со Христом изначально предопределяет высочайшие требования к человеку. При разрастающейся мировой апостасии, остаться до конца верным Богу трудно. Это так. Но у нас нет иного выбора и иного пути. Его не следует даже искать. Ибо, все остальные пути ведут не к Богу, а к дьяволу. Ведут не к спасению, а к погибели. Невзирая на трудности и искушения последнего времени, изобретать нечто жизненно новое нам не потребуется. Жить надо по Святоотеческому преданию или опыту – просто и со Христом. Если будем так жить, да ещё и помнить, что с Богом мы всегда победим, а без Бога всегда проиграем – то всё остальное, по милости Божьей, приложится.
Не верьте тем, кто сегодня много говорит о потерянной Родине, или, что Родины у нас уже нет. Есть у нас Родина! Как есть и родители. Вкладывать политическую подоплёку в эти два понятия и ставить её во главу угла, до безобразности пошло и глупо. Мы любим и почитаем своих родителей не за их политические пристрастия или убеждения, а по заповеди Божьей.
«Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать; и: злословящий отца или мать смертью да умрет» [496].
Они нас родили, вскормили и воспитали, дали «путёвку» во взрослую жизнь. И помимо нашей сыновней любви, и нашего почитания у нас ещё остаются и сыновни обязанности перед ними. И их не так мало. Мы им обязаны помогать, защищать, ограждать от болезней и тому подобное. Если ваш отец коммунист, а ваша мать баптистка, а сами вы православный христианин, вы же не оставите своих родителей беззащитными от нападения хулиганов или без куска насущного хлеба.
Точно также и с Родиной. Родина – мать. А от родной матери не отказываются. Если она вот такая, то, кто же в этом виноват, если не мы с вами.
Я родился и вырос на хуторе. С раннего детства полюбил речку, луг, поля и свой родной хутор. Полюбил вместе с простыми и трудолюбивыми людьми – хуторянами. На речке я купался и ловил рыбу. На лугу пас коров. А поля вспахивал, сеял и убирал. Каждый хуторянин мне близок и дорог, и келейно я по всем им молюсь. Молюсь за здравие и больше за упокой.
Это моя речка, луг, поля. Мой хутор и мои хуторяне. Это моя родина. В миру я долгое время жил и работал в Якутии. И это тоже моя родина. Побывал во многих местах бывшей Российской Империи. И там тоже я не чувствовал себя чужаком или изгоем. Во всей совокупности перечисленных (и не перечисленных) мест и земель, это моя Родина. Родина без всякой циничной политики и без всего остального. Господь дал нашим предкам много землицы и всю её ещё не забрал.
Другое дело, что нам не нравится общественно-политическая надстройка над Родиной. Не нравится Её духовная составляющая. И мы денно, и нощно молимся и желаем, чтобы порушенная справедливость в феврале 1917 года, наконец-то, восторжествовала. Если у нас нет Родины, то над чем же тогда порушенная справедливость будет торжествовать? Без Родины не существует понятия нации и национальности. Как не существует и понятия народа или народности. И Родина, и нация теснейшим образом связаны воедино. С высоты своего положения акцентировать внимание на политическом аспекте и без учёта церковно-православного толкования - очень опасно. Можно быстро скатиться на плоскость отрицания очевидных православных реалий и впасть в область циники и губительного нигилизма.
+++
За малые годы Российская Православная Церковь приняла целый ряд важнейших и основополагающих Соборных документов. Мы полно и православно сказали о Февральском грехе русского народа, о церковных отступлениях, о Богоустановленности православно-монархической государственности и её значимости для Церкви. Настанет время, когда Российская Православная Церковь призовёт русских людей к Покаянию и помажет на Российский Престол Православного Государя.
Время это приближается.
Никакие силы не столкнут Церковь с православного пути, как бы им этого не хотелось. Бог с нами, а всё остальное приложится.
«Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь» [497].
Мы не одни в этом греховном мире. Святые Угодники Божьи предстоят пред Престолом Господним и возносят молитвы за нас многогрешных. Заступница Усердная – Пресвятая Богородица - покрывает нас Своим Покровом. Господь Бог наш Иисус Христос стоит во главе Церкви Своей. Правда и духовная сила за нами великая. Но и нам, по слову Апостола Петра, надо не спать и лениться, а трезвиться и бодрствовать, противостоять дьяволу своею твёрдою верою.
«Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным; не мечтайте о себе; никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» [498].
Впереди у нас ещё много радостей и разочарований. Много дел и свершений. Земная жизнь ещё далеко не закончилась, а всё ещё длится и продолжается. И пусть наша жизнь не легче и слаще, а дорожка к Богу становится всё трудней и тернистей, но, слава Богу за всё! Чем тяжелей, тем спасительней! Не ищите награду в этом миру! «… ибо велика ваша награда на небесах…». [499]
В последние времена человеческий мир уподобится водному потоку. «Потечёт» в разные стороны и часто, не понимая, куда и зачем. На пути этого потока станем мы с вами – Церковь Христова. Поток схлынет, а Церковь останется на веки вечные «…и врата ада не одолеют ее» [500].
В чём нас Господь застанет, в том и будет судить. Не забывайте и всегда помните об этом. Со вторым Пришествием Господа нашего Иисуса Христа мир изменится. Изменимся и мы с вами. И дай нам, Господи, милость стать по правую сторону от Тебя!
Меня простите!
А Богу слава навеки! Аминь.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Вместо эпилога
.
«И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратился к Богу, Который дал его».
(Книга Екклесиаста или Проповедника. 12:7).
В начале этого века (году, этак, в 2000-м или 2001-м) сподобил меня Господь отправиться к Свято-Пантелеимонову источнику, что в верстах семи от моего родного хутора. Я и раньше туда хаживал, правда, не так часто, как хотелось бы. То крестьянские дела и заботы, то чтение Псалтири по усопшим, а то и матушка-лень надолго отрывали меня от его целебной по вере воды. И всё же, я источник не забывал. Раз, а то и два раза в год испивал его чистой и прохладной водицы. Ходил к источнику не по праздникам, а всё больше, в будние дни, когда у ключа собиралось мало народа. В праздники собиралось много. А на девятое августа, в день памяти Святого Великомученика и целителя Пантелеимона, приходило и съезжалось столько людей, что и яблоку негде упасть. Многие и многие тысячи. Оно и понятно. Болеть-то никому не хочется. А слава у Святого Великомученика и целителя Пантелеимона превеликая. Вот и шёл, и ехал к Святому Великомученику и целителю люд со всей необъятной России. Кто за надеждой на излечение, а кто и просто так, лишь бы приобщиться, хотя и к местной, но уже далеко известной святыни.
Сам источник находился в обширной дубраве, в полуверсте или версте от большого села - Вязовое. В самом начале книги я уже упоминал о нём. Дубраву мы называли «Вязовской лес». И отроду этому лесу лет триста или Бог знает сколько. В советские времена в дубраве проводились ярмарки и ставились пионерские лагеря. А при нынешней власти, Московская патриархия облагородила источник, вырыла рядом пруд и поставила небольшую часовенку. В день памяти Святого Великомученика и целителя Пантелеимона патриархийные «батюшки» с усердием окупали (и всё ещё, окупают) затраты.
Раньше на источнике хорошо было от природной естественности. Теперь же не так плохо стало и от патриархийной комфортности. Приходил я сюда не ради вкусной водицы, а, ради особого лесного воздуха и той Божьей благодати и упокоения, исходящей и царившей вокруг. Приятно и полезно испить с дороги холодной водицы. Приятно и полезно посидеть в дубравном тенёчке и подумать не о земном и постылом, а о чудесном, Небесном. Не один я такой слонялся по белому свету «без дела». Всякий раз, заставал у источника себе подобных людей. И это тоже наводило на приятные мысли и размышления.
Самое моё любимое время в лесу, когда зацветают ландыши и начинают петь соловьи. То есть - начало мая месяца. К этому времени, с посевами на хуторе уже управляются. Да и погодка начинает выравниваться и благоприятствовать путешествию.
Вот и в тот раз, собрался я в дорогу с вечера. Утром встал рано. На востоке ещё только, только начинало сереть. Связал нехитрый узелок со съестными припасами. Просунул в него крепкую дубовую палку. Палку положил на плечо. И отправился в путь-дорогу. Семь вёрст для меня не ходьба. На Северах хаживал и по сотне. Огородами и лугом не стал выходить на шоссе. Росы побоялся. Прошёлся по хуторской грунтовке. И дальше уже пошёл на восток по асфальту.
Забравшись на кряж Средне-Русской возвышенности, я, по горно-таёжной привычке, остановился. Затем, перевёл дух и внимательно осмотрелся. За полчаса ходьбы, горизонт на востоке заметно раздвинулся и просветлел. Прикинул, что, при таком темпе, восход солнца я встречу, где-то, на половине пути. Спешить мне особо и не к чему. Поэтому, поубавив прыти, дальше я уже двинулся размеренным и неторопливым шагом. Лёгкий утренний ветерок приятно холодил и освежал лицо. Но день обещал быть жарким. Точно такая же погода начиналась вчера. А потом целый день жарило и пекло.
Подумалось, что если ничего не изменится, то вчерашний день повторится.
Пройдя с версту, я свернул на едва заметную полевую дорогу. Она укорачивала путь в половину, хотя и шла по сильно пересечённой местности. Дорога шла через поле, потом глубокий овраг и дальше уже, до самой дубравы, снова по полю.
Спустившись в овраг, я опять попал в тёмное царство. Даже немного постоял, давая глазам попривыкнуть. У небольшой овражной запруды спугнул двух диких уток. Кряквы. Чирки, те, будут пошустрей и поменьше. Утки не столько сами испугались, сколько своим шумом и неожиданностью испугали меня. Они медленно поднялись над оврагом. Сделали большой круг. И когда я вышел из оврага на чистое поле, подались опять на своё место. Запруду эту воздвигли давно. Для коровьего колхозного стада. Чтобы коровушки пили водичку в знойное лето. Стада того давно и в помине нет. А запруда осталась. Она заросла густым камышом и стала пристанищем для диких уток, а зимой для зайцев и кабанов.
И то, слава Богу.
По грунтовой дорожке идти намного легче, чем по асфальту. Ноги землицу приветствуют. А вот и солнце. Здравствуй, солнышко! Какое же оно огромное и притягательное! По Божьей милости и светит, и греет, и форма у него глазу приятная. Тепло. Свет. Форма. По солнцу некоторые Святые Отцы объясняли Пресвятую Троицу. Как Святой Патрик по трилистнику клевера. По солнцу тоже понятно. Вон, оно, какое огромное и живительное. Всё для нас, для людей.
И ещё для всего живого на нашей земле.
Дубрава уже на виду. С запада её обсадили берёзовыми посадками. А с юго-западной стороны, вдоль оврага, насадили сосёнок. Давно обсадили. Берёзки и сосенки выросли. И теперь они своими размерами не уступают вековым дубам. Я выхожу, в аккурат, на пёстрые берёзки. Дорога моя у них и кончается. Дальше уже надо идти по узкой тропинке. Заблудится здесь и захочешь, так не заблудишься. Все лесные тропинки ведут к одному и тому же месту – к источнику.
Солнце уже поднялось выше. И его лучики пробиваются и просвечивают сквозь молодую листву. Чудно пахнет ландышами. Лесные птахи летают с ветки на ветку и поют наперебой. Где-то в чаще кукует кукушка. И повсюду трельчат соловьи. Господи! Благодать-то, какая! Чем глубже в лес, тем меньше мокрой травы. И всё же, ноги я намочил.
Такая рань, а у источника я не один. Большой, средних лет, человек, набирая воду, представился. Ничего себе. Заместитель главы администрации соседнего района. Говорит, что постоянно приезжает сюда за водой. Ездить часто не имеет возможности, потому и набирает сорокалитровый бидон. Воды мне не жалко. Её пока хватает на всех. Я помогаю ему поставить бидон в дорогую машину. И вскоре остаюсь один на один. И с Богом. И лесом с целебным источником.
И сказочной красотой.
Я с удовольствием умываю лицо и руки. Набираю водицы в рот. Вода такая холодная, что, аж, зубы ломит. Наливаю полную баклажку. И притомлённо присаживаюсь на толстое сухое бревно у пруда. А лягушек-то сколько! Да, все такие огромные и зелёные. Меня они не слишком боятся. Прямо глядя на меня, занимаются своими лягушачьими делами.
И даже почти не кричат.
Бревно, на котором сижу, не одно. Их специально тут положили вместо скамеек. С одной стороны пруда берег крутой, а со стороны источника – пологий. Сидеть очень удобно. Пожалуй, что эти толстые и сухие брёвна ничуть не хуже настоящих скамеек.
Кушать в такую рань себя не заставишь. Узелок с продуктами с палки я снял и положил с собой рядом, на широкое ложе бревна. А свою походную палку упёр в землю и облокотился на неё ладонями. Думать ни о чём не хотелось. Вся мирская суета осталась по ту сторону от дубравы. Я прислушался к пению птиц и шороху дубовой листвы.
Время замерло или остановилось.
Бог весть, сколько я так просидел. Может быть, час или меньше. Когда же поднял голову, то на соседнем бревне увидел намного старше себя человека. Он сидел ко мне боком и черёмушной хворостинкой ковырялся в отсыревшем своём башмаке. Кого-то он мне здорово напоминал. Только, вот, кого? Худощавый и довольно сухого телосложения. С узловатыми руками и небольшой бородкой. Обличье и одёжка нежданно-негаданного соседа напоминала мне, что-то очень и очень далёкое и почти совсем забытое. Человек сидел на соседнем бревне и с увлечением занимался чисткой башмака. А я всё напрягал свои мозги и вспоминал, где же я его мог видеть. На память ничего толкового не приходило.
Наконец, он оторвался от грязного башмака и с блаженной улыбкой глянул в мою сторону. И в этот самый момент я его и узнал. Вспомнил, где и когда повстречал этого человека. Ну, конечно же, в Якутии. На Брендакитском перевале. Двадцать лет прошло с того времени. Я вспомнил ту встречу и возблагодарил Бога за крепкую память. Поднимались мы тогда на тяжёлом «Мазе» - наливнике. Начальник старательского участка послал нас за соляркой. В кабине, кроме водителя, нас двое старателей. Работа предстояла нелёгкая. Надо было ручной помпой закачать в наливник двадцать тонн дизельного топлива.
Только мы свернули с поселковой дороги и начали подниматься на перевал, как, из-за поворота, показался идущий в гору мужик. У него-то я и перенял манеру ходить с палочкой и узелком на плечах. До ближайшего якутского посёлка сорок вёрст, да ещё по горам, а мужику всё равно. Идёт себе и идёт. И даже руку не поднимает. Мы остановились и предложили его подвезти.
- Езжайте с Богом. Я сам потихоньку дойду, - ответствовал нам пешеход.
Уговаривать на Северах, как-то, не принято. Мы удивлённо пожали плечами и поехали себе дальше. А потом всё это забылось и кануло в лету. И вот теперь, узнаю того человека. К нему я тогда не очень присматривался, хотя и разговаривал с ним лично. Сидел-то я с краю, у самой двери. Странно, что за двадцать лет время его так мало изменило.
- Вы вспомнили меня? – если у меня ещё и оставались сомнения, то, этим вопросом, их развеял сосед.
- Вспомнил, - подтвердил я и так очевидное.
- Вас удивляет наша встреча?
- Немного удивляет.
- В жизни случается много удивительных или странных вещей. А я вас сразу узнал. Хотя вы и очень сильно изменились. Сам-то я чуевский [501]. На Северах оказался давно и не по собственной воле. И потом ещё прожил много там лет. Вас не тянет на Севера?
- Тянет. И ещё как тянет.
- Вот и меня они затянули. Лучшего места не видел на белом свете. Вы похожи на батюшку. Или ещё только идёте по этой дороге?
- Скорее, по Божьей, чем по иной.
Земляк мой притих и о чём-то серьёзно задумался. Потянулся, было, опять за черёмушной хворостинкой, но потом рука его дёрнулась и остановилась на половине пути. Какая-то мысль не давала покоя. Минуты две или три прошли в ожидании и томлении духа. Наконец, он медленно оторвал голову от башмаков и пристальней посмотрел в мою сторону.
- Хочу вам поведать об одном случае, произошедшем в лагере в 1952 году. Да только, вот, сомневаюсь надо это вам или нет.
- А вам надо? – спросил я с участием.
- Пожалуй, что надо, - после длительной паузы ответил старый знакомый.
- Тогда не мучайтесь.
Однако не сразу я услышал желанный рассказ. Человек ещё долго собирался с мыслями. И время ни его, ни меня не подгоняло.
- Если вы долго прожили в Якутии, то вам, вероятно, известно, что почти все геологические изыскания на Северах, выполнены ещё в сталинские времена, - начал земляк издалека, выискивая в моём лице реакцию на эти слова.
Я кивнул ему головой в подтверждение и рассказчик продолжил.
«В Ыныкчанском лагере всегда было трудно зэчарить [502]. И тому есть много причин. Среди всех северных лагерей он слыл одним из самых тяжёлых и неудобных. Но не о том речь. Срок потянул [503] я недавно. И в лагере очутился в свои неполные девятнадцать лет. Там и познакомился, а после и ближе сошёлся, с одним человеком, по прозвищу «Ваня – одуванчик». Наши нары располагались рядом. Кайлили [504] мы в одной бригаде. Нас звали Иванами. Ему, как и мне - девятнадцать. Когда у людей столько схожестей – простыми случайностями их не назовёшь. И всё же мы были разными людьми. Я от сохи и Совдепии. А он от книг и молитв - из Харбина. После войны много русских «китайцев» попали в места не столь отдалённые. И семья Вани – одуванчика исключения не составила. Отец его служил в Харбине священником, да ещё и из белых офицеров. Священство - ещё бы, куда ни шло. Священство – простительно. А вот офицерского прошлого власть ему не простила. Вот и загремел батюшка со всем своим семейством в советские лагеря.
Батюшка раньше, а все остальные попозже.
Ваня-одуванчик всё время молился. Ростом высокий и с благородными чертами лица, он не сильно от нас отличался. Обличье его, хотя и привлекательное, в глаза не особо бросалось. А вот постоянная молитва и жизнь не от мира сего, его от нас здорово отличала. Потому и прозвище подобрал соответствующее. Прозвище - Ваня-одуванчик, как никому из нас, ему подходило. Казалось, дунь на него посильнее и разлетится он в разные стороны, не хуже того одуванчика. Но это только свиду казалось. На самом же деле, Иван был очень крепким и выносливым человеком. Мы с ним кайлили в забое рядом.
И я знаю, о чём говорю.
В Харбине он учился на учителя географии. А по мне так, уж, лучше бы учился на батюшку. Когда он в молитве, с ним не столь интересно. По природе и я не слишком общителен. Вот и сошлись мы с ним по нашим характерам. Он всё время молится про себя, а я всё о чём-то мечтаю. Вокруг холод, голод, увечья и смерти, кипят человеческие страсти вовсю. А мы оба с ним неприкаянные. Два Ивана. Один – Иван-одуванчик. А другой - «Полтора – Ивана», то есть я.
Летом 1952 года вышло нам послабление. Вот, как раз, и связанное с геологией. Нас с Иваном отправили на расконвойку [505]. И на цельное лето, а то и на всю осень прикомандировали к вольному геологу Тимошенко. Потом мы узнали, что Тимошенко, хотя и слыл в геологической экспедиции человеком суровым, но геологом считался непревзойдённым. От того начальство ему всячески и потакало. На нашу же пользу и потакало. Всё, что требовал для себя и своих людей Тимошенко, на складах выдавалось ему сразу и без проволочек. При такой его славе, затарились мы вольными харчишками под самую, что ни на есть, завязку. А потом вместе с ним, якутом-каюром Семёном и его парой монголо-породных лошадок, отправились в горы на геологические изыскания.
Апрель и май выдались тёплыми, но на вершинах сопок лежал ещё снег.
Чего искать – не нашего ума дело. Наше дело – слушаться геолога Тимошенко. Таскать, с поднятыми и отбитыми его геологическим молотком камнями, увесистые рюкзаки. Дышать полной грудью воздухом мнимой свободы. И от всего пуза питаться пшённой кашей, нежалеючи сдобренной Сеней-якутом американской тушёнкой. Питаться не просто так, от нечего делать и по привычке, а плотно усваивая калории и помаленьку набираясь жиров и силёнок. Иной участи от этой жизни нам с Иваном не надо. Для советского зэка о лучшей доле можно только мечтать. И то, если и мечтать, то не в этом месте, а другом. Не в таком, значитца, вольном и сытном.Жизнь - она не кино, а вот такие сплошные реалии.
От Ыныкчана мы отошли вёрст на двести.
На Аллах-Юне [506] разбили свои палатки. И приступили к работе. Каюр Сеня оставался за повара и рыболова. А мы с Ваней-одуванчиком, за носильщиков и следом за Тимошенко. Конец мая и начало июня – самое лучшее время в Якутии. Вы это знаете. Ещё нет комаров и так донимающих оводов. Понимая это, Тимошенко и старался сделать, как можно больше, выжимая из себя и из нас последние силы и соки. Уходили мы ещё затемно, а возвращались, когда уже солнце клонилось к закату. Геолог раскладывал камни по ящикам из нашенских рюкзаков. А мы с Иваном купались в холодной и прозрачной воде Аллах-Юня, с удовольствием смывая солёный пот и походную грязь. После купания, плотно ужинали каюрской стряпнёй. И без раскачек, ложились спать. Утром надо было очень рано вставать. А время ценить мы давно научились.
Дни бежали за днями. Недели проходили за неделями. Так мы с Иваном работали и постепенно крепчали. Свежая и калорийная пища, вкупе с нашей молодостью, делали и сделали своё благородное дело. Мы превратились в настоящих, по внешнему виду, людей. Тимошенко всё хорошо понимал и не требовал чего-то особенного или сверхнеобычного.
Наши геологические маршруты проходили по горам и многочисленным притокам Аллах-Юня. Но дальше двадцати вёрст от нашей стоянки мы не отходили. Помимо маршрутной ходьбы, геолог отрывался частенько на записи. И тогда мы с Иваном блажили. Ставили петли на зайцев и вместе с каюром Семёном, ловили хариусов и ленков в прозрачной горной реке.
Погодка нас жаловала. Июнь и июль в небе стояла такая жара, что вода в Аллах-Юне прогрелась почти до самого дна. Семён насушил рыбы и накоптил много вкусной зайчатины. О возвращении на каторгу в лагерь не хотелось и думать.
Однако же, думалось.
Ваня-одуванчик с лица ещё более просветлел. И всё неустанно благодарил Бога за такие деньки. И так он молился не переставая, а тут и вовсе впал во блаженство. Я заметил, что Тимошенко не очень-то его моления нравятся. Несколько раз геолог позволил себе даже накричать на Ивана. Но тому всё, как с гуся вода. Кричи, ни кричи. Знай, себе работает, молится и всё улыбается. Тимошенко махнул на блаженного Ваню загорелой рукой и с головой ушёл в свою геологию.
Не зря он считался лучшим геологом в экспедиции.
В начале августа пошли сплошные дожди. Духота спала. Повсюду высыпались грибы-маслята. Но осенью в воздухе ещё и не пахло. Через неделю дожди прекратились. И всё опять стало на своё прежнее место. Духота. Комары с оводами.
И всё та же работа.
В тот день мы наткнулись на горное озеро. На очень красивое озеро. Словно невиданный бриллиант в скальном обрамлении. На его берегу мы сложили пожитки и терпеливо стали дожидаться геолога Тимошенко. Тому вздумалось в этом озере искупаться. Что ж, вольному воля. Мы с Иваном привыкли купаться в реке. И свято следовали этой привычке.
Как оказалось, не зря следовали.
На середине озера Тимошенко, вдруг, начал тонуть. Сначала мы услышали его громкие всхлипы. А потом он неуклюже замахал руками и ушёл под воду. То ли судорга его за ногу схватила, то ли ещё что. Голова его на миг показалась и снова исчезла в воде. До него метров двести. И кто же нам поверит, что он, вот так запросто, прямо на наших глазах утонул? Утонет, нового срока ни мне, ни Ивану не избежать. Да и жалко же человека. Плохого-то он нам ничего не сделал. Наоборот, по его милости, так сытно и вольно живём. Короче, ступор на меня навалился конкретный.
Пока я тяжело и с натугой ворочал мозгами, мой Божий «одуванчик» вскочил мигом с камней и прямо по воде побежал к утопающему Тимошенко. Вначале я не осознавал происходящего. Ну, бежит себе человек и бежит. Эка, невидаль. Опомнился только тогда, когда Иван ухватил геолога за руку и стал подтаскивать к берегу. Кто бы увидел, не поверил бы в жизнь. Тимошенко - по шейку в воде, а Ваня-одуванчик – по воде, яко по суху. До сих пор, та картина перед глазами.
Геолог так нахлебался воды, что ничего и не помнил. Как очутился на берегу и кто его из воды вытаскивал? Откачали мы его погодя. Ивану я то ж ничего не сказал. Но не померещилось же мне!? Тонул-то геолог, не я. Вот такая приключилась инверсия».
Иван замолчал и начал опять ковыряться в своём башмаке. Сдался же ему этот башмак! Меня распирало от вопросов, а ему, хоть бы, хны.
- Ну, а дальше-то, что!? – чуть не прокричал я, не выдержав его хладнокровия.
- Дальше? А, ничего. Отработали мы с Тимошенко до октября месяца и возвратились в Ыныкчанский лагерь на свою каторгу и на худые харчи. Потом умер Сталин. И приключилась амнистия. Я вышел на волю. А Ваня-одуванчик не вышел. Ваня-одуванчик остался в лагере. На веки вечные. Прирезал его один урка [507] ни за понюх табаку. Потому и вопрос у меня к вам, мил человек. Может, ответите. Почему же так вышло? В озере - ходьба по воде и спасение человека, а от заточенной железяки – такая глупая и нелепая смерть. Почему так? Вот вопрос, который меня всё время мучает и не даёт мне покоя.
Я приуныл и призадумался. Стало до слёз жалко Ивана. И этого, что рядом. А всё больше того, что остался там, в далёкой Якутии. В голове всё перевернулось. Хотелось плакать, а не отвечать. Да и что тут ответишь? На всё Божья воля.
Господу бы эти вопросы, а не мне окаянному.
- А вы сами-то, человек верующий? – спросил я для успокоения.
- Теперь уже точно не знаю. Скорее, да, чем – нет. Но в загробный мир, верю твёрдо.
- Хорошо. Как вы думаете, с теми качествами, которые вы наблюдали у своего товарища по несчастью, Господь уготовит ему плохое место в загробном миру?
- Думаю, что уготовит самое наилучшее! – сразу пылко ответил Иван.
- Я тоже так думаю. Тогда давайте от этого и исходить. Иван уже, видимо, в Царстве Небесном. А мы с вами всё ещё здесь. И будет ли нам даровано Царство Небесное – ещё неизвестно. Иван, видимо, спасся. А мы с вами ещё только на этом пути. И хорошо, если это так.
Мы оба задумались. И больше уже ни о чём не говорили. Посидели. Помолчали. Потом, кивнули друг другу на прощание головой. И разошлись в разные стороны. Иван из Чуева на восток. А я, следом за солнцем, на запад. Птички почти угомонились. Солнце всё сильней и сильней припекало. В воздухе всё так же пахло ландышами и травой. День обещал быть жарким.
В берёзовом тенёчке я перекусил. И в раздумьях направил свои стопы домой. После обеда меня ожидала крестьянская работа.
А дальше уже, как Бог даст.
На всё Его воля, а не моя.
+ + + + + + +
* Да помогут мне эти путеводительные слова моего любимого святого Екклесиаста. (М. Д).
1 С протоиереем Валерием Рожновым (тогда просто Валерием) мы вместе учились на агрономическом факультете Курского сельскохозяйственного института. Учились в одной группе и уже тогда были духовно близки. Ко времени описываемых событий наша дружба насчитывала порядка 27 лет. (Здесь и далее примечания автора).
2 Казацкая степь – заповедник.
3 Воронежское пастырское совещание 2001 года, с участием архиепископа Лазаря (Журбенко), епископа Вениамина (Русаленко) и епископа Агафангела (Пашковского). Знаменито оно тем, что на этом совещании выше перечисленные архиереи в полной мере показали свою отступническую, раскольничью сущность.
4 Правящим архиереем Европейской епархии РПЦЗ (В) был тогда архиепископ Варнава (Прокофьев) с титулом Канский и Европейский. Он же являлся и Заместителем митрополита Виталия (Устинова), Первоиерарха РПЦЗ, РПЦЗ (В).
5 В деревенском обиходе – Новоселия. Правда, в моей метрике записали, что родился я в хуторе Мироновка, Радьковского сельсовета. По советским бумагам хутора Новосёловка, как бы и вовсе не существовало. Не существует его в бумагах и нынешней власти. Семнадцать домов стоят. Живут люди. На лугу пасутся коровы и гуси. А по бумагам выходит, что ничего этого нет. Случаются же такие парадоксы. Сказать кому, так и не поверят. Однако, сказанное - правда. А хутор Мироновка находится в двухстах метрах от моего родного хутора.
6 Теперь-то уже почти все повымерли.
7 Об этом можно почитать в «Церковной истории» митрополита Макария (Булгакова).
8 Погибли и два его родных брата.
9 На фронт отец попал не сразу, а после обучения в запасном полку. В том полку, он едва не погиб от голода.
10 По слухам – архимандрит.
11 О самом селе чуть ниже.
12 В селе Васильевка жила барыня со своими детьми.
13 Почти каждый раз я просил его повторить этот рассказ.
14 Сейчас бы, да такое слезоточение…
15 Дедушку Кирилла я и похоронил. Когда он преставился ко Господу, выкопал на кладбище могилу и похоронил. А, став священником, отпел.
16 В наших местах очень многих крестьян советы раскулачили и репрессировали.
17 В то время, вопреки моим желаниям.
18 Храм стоит и до сегодняшней апостасной поры.
19 Скончался епископ Евфимий (Беликов) 11 октября 1863 года.
20 Эти мельницы, точнее, то, что от прежнего количества осталось, я успел захватить и запомнить. Некоторые из них тогда ещё работали. Правда, совсем непродолжительное время.
21 Построили земскую школу в 1875 году.
22 А эту школу сдали в 1899 году.
23 Точная дата постройки земской больницы мне неизвестна. Полагаю, что построена она не позднее 1875 года.
24 И по всем остальным сёлам, станицам и хуторам необъятной России.
25 Крестьян уже не пишу.
26 Да и не хочу открывать.
27 О нём я уже упоминал чуть выше.
28 По ней я восемь лет ходил в школу. Сначала в начальную Нижне-Гусынскую. А по окончании четырёх классов, в Журавскую восьмилетнюю.
29 Люлька представляет собой рамку, сбитую из четырёх струганных досок и снизу обтянутых мешковиной. От углов люльки тянутся к потолку четыре верёвки, привязанных к потолочному кольцу. Люльку легко качать, что очень нравится брату. В этой же люльке вынянчили и меня.
30 Зерно тогда выращивали ещё без генных изменений.
31 В те года в колхозе не было своей собственной столовой.
32 Увы, чаще всего не перепадало.
33 Попадались и такие уполномоченные, которых ни иконы, ни лампадка не интересовала. Интерес у них замыкался всё больше на еде и самогоне.
34 В сельской местности всегда так. За детьми присматривают до тех пор, пока они ещё не умеют ходить.
35 О них немного ниже.
36 По-моему, страха я тогда, вообще, не ведал.
37 Они мне были не столь интересны, как лягушки.
38 Я, лягушки и двоюродные сёстры иногда становились причиной семейных женских скандалов.
39 В сенцах, у закрома стояли две новые прялки.
40 Овечек мы не держали. Шерсть покупали в селе Вязовое, что в семи километрах и на кряжу.
41 Родной брат отца.
42 Она осталась от дедушки Афанасия, погибшего на советско-германской войне.
43 Читать я тогда ещё не умел. Читать научился в начальной школе. Не по церковно-славянски, конечно.
44 Скорее всего, её перепрятал отец.
45 Как и для многих, таких же, как я.
46 Забегая вперёд, следует сказать, что через два-три года, я научился плавать и нырять так, что в воде мне не было равных, даже и среди старших деревенских мальчиков.
47 Речной пескарь - рыбка маленькая, но очень вкусная. Водится она только в чистой воде.
48 Налим живёт в береговых норах. Рыба скользкая, однако, невероятно вкусная. Северный налим – ничто по сравнению с нашим, среднерусским.
49 В нашем сегодняшнем понимании.
50 О воспитательных беседах и речи не могло быть.
51 Если не на третий.
52 И какое угодно другое.
53 В системе Гулага рабы необыкновенные.
54 Антисоветское.
55 Когда же, вместо трудодней, начали платить за работу деньги, люди стали их копить, чтобы не только перестроить свои халупы, но и по возможности, купить жильё в городе и таким образом, освободиться от каторги. Город колхознику представлялся воплощением свободы и почти независимости от системы.
56 Речь здесь только о нашем хуторе.
57 О колхозе или советском милосердии упоминать здесь абсурдно.
58 Написал это специально для крикунов, сегодня так громко кричащих в пользу советской власти.
59 Так поступали все хуторяне.
60 В смысле т. н. «лампочка Ильича».
61 В сельской местности радио начинало играть в пять часов утра. А в городе в шесть.
62 В интерпретации могу и ошибиться. Прошу прощения!
63 Дури и грехов тоже набирался. Как же без них-то?
64 И к моей несказанной радости.
65 По отцовскому совету.
66 Скорее с восторгом.
67 На самом деле, Дамку убил наш полупьяный и полоумный сосед. Но об этом я узнал уже значительно позднее.
68 Вспомните слова из песни: «утверждают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести». Слова из песни не выкинешь. Но мы и вправду верили, что всё так и будет. Как в песне.
69 В какой среде.
70 Как некогда от литературного персонажа - О. Бендера шахматным энтузиазмом заразились доверчивые люди в Васюках.
71 Особенно мне.
72 Чаще всего до тех пор, пока меня не замечали и не прогоняли.
73 Что подслушивать, это плохо я тогда ещё не знал.
74 Погибших потом на советско-германской войне.
75 Им уже «шили» дело о шпионаже в пользу Германии, Японии и т. д.
76 Бабушка Аня, ради своих голодных детей, собирала на убранном колхозном поле колоски. За что и поплатилась. Слава Богу, хоть живая вернулась домой.
77 Не так часто, но появлялся.
78 То есть, милиционера пронесло мимо.
79 Край у нас свеклосеющий, а стало быть, самогонный.
80 Дом новый построили, но жить в него ещё почему-то не перешли.
81 Теперь уже не помню куда.
82 А то я не знал этих ответов!
83 Для меня было большой загадкой, как это из сена и соломы у коровы получается такое вкусное молоко? Я догадывался, что взрослые-то наверняка знают как. И недоумевал, почему же они до сих пор не сделают такой завод-корову? Чтобы с одной стороны завода подавалось сено или солома, а из другой вытекало из трубы вкусное парное молоко.
84 Родители боялись, чтобы я чего не поджёг. Впрочем, как они их от меня не прятали, я их всё равно находил.
85 Без комментариев.
86 Бабушка даже не умела считать деньги. Вначале считать было нечего. А когда уже и было чего, то она количество денег определяла по количеству купюр. Их номинальное достоинство для неё не имело значения. Хоть и по рублю, но лишь бы много.
87 Как говорится, были бы деньги.
88 Надо мной тогда часто подшучивали. Шуток я не понимал, принимая их за чистую правду. Так вышло и в этот раз. Рядом со старой хатой, я катался на лыжах с небольшой снежной горки. Катался здорово. Мимо по просёлочной дороге проходил дядя Филипп из соседнего хуторка. Я его знал. Он работал молотобойцем в нашей бригадной кузнице. Дядя Филипп остановился. Поднял со лба свою потрёпанную шапку. Посмотрел, как я лихо катаюсь с горки. Потом покачал головой и так задумчиво говорит мне.
- А я-то думал, что ты в школе.
Кататься я перестал и вопросительно посмотрел на дядю Филиппа.
- Как? Ты ничего не знаешь? – хлопнув себя по коленям руками, спросил он словно и не меня, а будто кого-то другого. Я ещё посмотрел по сторонам. Нет ли кого рядом поблизости. Видя моё недоумение и, не дожидаясь никакого ответа, он тут же возмущённо продолжил. – Сегодня же новогодняя ёлка в школе! И всем детям раздают бесплатно конфеты! Все наши хуторские хлопцы уже давно побежали в школу за конфетами. Один ты тут и катаешься. Чего рот-то раззявил? Хватай лыжи в руки и быстрей беги! Конфет там, я слышал, навезли много. Может тебе ещё и достанется. А я-то думал, что ты знаешь.
Сказав всё это, дядя Филипп надвинул свою шапку обратно на лоб и двинулся по дороге дальше. Понятное дело, что мне ничего не оставалось делать, как тут же последовать его совету. Конфеты – штука серьёзная. И на дороге они не валяются.
89 Советы её собрали из кулацкого дома.
90 Мы же о них подробно узнали потом.
91 Видно не имелось на то воли районного партийного руководства. Если бы партия приказала, деваться Матвею Даниловичу было бы некуда.
92 Уже в наше время, он пригласил меня почитать Псалтирь по своей усопшей жене рабе Божьей Екатерине. Я, конечно же, согласился. После молитв, мы с ним разговорились. И он поведал мне свою историю жизни. Она и поучительна, и во многом, характерна для его поколения. Умер Матвей Данилович в возрасте девяноста лет.
93 Разумеется, без учёта прямого (или косвенного) Ангельского воспитания.
94 Такое, какое получало Российское дворянство и часто купечество.
95 О них ниже.
96 Эта печка отапливала большую вторую классную комнату. И топилась она с коридора. У двери же стояла наша законная печка, которая отапливала и наш маленький класс, и учительскую. Так, что, бывало, запаривались мы с Лёником зимой. И ещё как запаривались.
97 Большинство из нас проживало на дальних хуторах и до школы, друг друга мы никогда не видели. Мне были знакомы только один мальчик и девочка.
98 К примеру, я не знал ни одной буквы. Родителям подсказать некогда, а бабушка и сама неграмотная.
99 И то, наверное, не все.
100 Начиная с первого класса и до четвёртого.
101 Хотя, тогда мы так не считали. Его строгость не позволяла нам баловаться на уроках. А иногда так хотелось побаловаться…
102 О дифференциации же учеников по качеству и быстроте мышления, тогда не могло быть и речи.
103 К слову сказать, тяга, к которому у меня не уменьшалась на протяжении всего времени обучения в начальной школе.
104 Упущенному, как раз по этой причине.
105 Которая, конечно же, убралась и случилась. Но убралась и случилась позднее, уже в старших классах.
106 На пустыре проходили все уроки физкультуры.
107 Районный отдел народного образования.
108 Название хутора.
109 Уж, лучше бы молчал.
110 Не лишне будет сказать, что по арифметике я был у него самым любимым учеником.
111 На самом деле, инспектор оказался не такой и строгий.
112 Пластилин, в большой коробке, Матвей Данилович приносил тоже из учительской.
113 Как и почти всего.
114 Иногда в них что-то, да залёживалось.
115 Научили меня и этому ремеслу.
116 Отец тогда уже работал председателем колхоза и за ношение его сыном нательного крестика, у него могли возникнуть большие неприятности.
117 Неожиданно для нас. Директор и учительницы, конечно же, знали о ней.
118 Вспомнились они на приписной комиссии в военкомате.
119 Тоже мимо колхозного тока, только с другой стороны.
120 За исключением русского языка и литературы, алгебры и геометрии и биологических предметов.
121 Мы часто находили в посадках и на полях: артиллерийский порох, патроны, полусгнившие пистолеты и автоматы…
Аз многогрешный находил патроны от противотанкового ружья, немецкий «вальтер», каски, штыки.
122 Тоже бывшему офицеру-фронтовику.
123 Я перестал с ним разговаривать и как прежде, перестал его уважать.
124 Ихние дети учились вместе с нами.
125 Кому-то покажется диким моё повествование. Однако оно правдивое от начала и до конца. Все знали об избиении учеников. Знали и в роно, а то и повыше. И, тем не менее, школа считалась на хорошем счету. А родители? Спросите вы. А, что родители? Отвечу я вам. Многие из них, когда вызывали в школу по поводу очередного баловства родного дитяти, открыто заявляли учителям.
- А вы его порите! Вы же знаете, что нам некогда. Мы всё время на работе. Порите и не вызывайте нас больше в школу.
Я сам много раз слышал эти слова…
Ну и пороли.
126 Так мы называли (про себя, конечно) директора школы Алексея Ивановича Заболотского.
127 И не случайно. Иногда он обращался ко мне с просьбой, чтобы отец выписал ему в колхозе фуражного зерна.
128 По одному нашему Радьковскому сельсовету погибло более шестисот человек.
129 Оно, конечно, о войне не грех бы написать и отдельную главу. Но, как писать, когда родился я, спустя десять лет после неё? Правда, я хорошо запомнил рассказы своих земляков, хлебнувших горюшка от военных «щедрот». И мог бы многое из услышанного пересказать. Только надо ли? Не знаю. Отдельную главу не обещаю, а вот вставлять военные фрагменты, это, пожалуй, можно.
130 Как на освоение целины. Забегая вперёд, скажу, что из-за слабого зрения правого глаза моя мечта летать оборвалась ещё в военкомате на приписной медицинской комиссии. А Ивану повезло больше. Он поступил в Чугуевское высшее лётное военное училище. Но, не выдержав издевательств, убежал с него ещё до принятия присяги.
131 Независимо от количества сданного.
132 А то и раньше.
133 Бывало, что и не такие ржавые.
134 Уже значительно позднее до меня дошло, что обыски в СССР практиковались везде. И не только в школах, но и в армии, на производстве и что удивительно, даже в войну на фронте. Никто из нас не протестовал. Не произносил ни слова. Мы думали, что так и положено. И что вышестоящее руководство имеет на это законное право.
135 Мину, например или снаряд.
136 Фамилию его запамятовал.
137 Конечно, дразнили за глаза.
138 Апеллирует догадками, грешит неточностями.
139 Жалко мне было бедного Матвея Ивановича.
140 Как в случае со мной на школьном крыльце.
141 В новый дом отец не разрешил их заносить.
142 И сказала, чтобы пустую бутылку обязательно принёс домой.
143 Он так и назывался - «косной».
144 Ни меня и ни моих приятелей.
145 Кузнецов, по-моему, со слабым телом и не бывает.
146 Перепадало же им каждый день.
147 У деда Ефрема на родине оставалась жена и двое маленьких детей.
148 То есть, по лицу, по скулам.
149 Гансом звали мужа Марты.
150 Обычно таким ножом тогда чистили в колхозе сахарную свеклу.
151 В Радьковке священник МП, будучи в изрядном подпитии, показывал мужикам свой партийный билет. К этому эпизоду, Бог даст, я ещё вернусь.
152 И не только военные.
153 Должность председателя сельсовета, к тому времени стала чисто номинальной. Позднее мне стало известно, что отца хотели совсем оставить без работы. Далеко не всем нравилась его прямота. Но потом наверху сжалились над инвалидом и дали вот эту самую номинальную должность.
154 На самом же деле, они были такими, какими и должны быть.
155 Среднюю школу я закончил с восемью пятёрками и восемью четвёрками в аттестате.
156 Детскую нерадивость и баловство, записывая почти в ряд уголовных преступлений, а нас самих, едва ли не считая врагами народа
157 Как ни странно.
158 Повоевать Дмитрию Ивановичу не удалось. Как он рассказывал, их стрелковый полк пешим маршем шёл к линии фронта. Вдруг, налетели немецкие бомбардировщики. Начали бомбить. При бомбёжке ему и оторвало правую ногу. На этом война для него, как началась, так и закончилась.
159 Средний аттестатский бал принимал участие в экзаменационном конкурсе.
160 На исторический факультет ХГУ поступали многие абитуриенты, но поступили, в основном, почему-то только одни евреи.
161 Слава Богу! Нас не так мало.
162 Я не преувеличиваю. Количество раскулаченных семей превзошло и мои ожидания. Еще, будучи в миру, по Ельцинскому указу о раскулаченных, за помощью в хлопотах о компенсации за раскулачивание ко мне обратилось более тридцати человек. А сколько не обратилось?…
163 Вспомните, по этому случаю, Сталинские крокодиловые слёзы, обильно пролитые в его статье «Головокружение от успехов».
164 До семидесятого?
165 Только не с таким чиновничьим гнётом, как теперь.
167 Бурные аплодисменты все достались Сталину.
168 То есть, сошёл с ума.
169 В советское время оно никогда и не прекращалось.
170 Фабрично-заводские училища.
171 Районный земельный отдел.
172 Это сейчас в магазинах можно видеть различные облегчающие приспособления, а тогда о них и слыхом не слыхивали.
173 Средняя школа выдала зелёные «корочки» тракториста. На самом же деле, трактористом мне ещё только предстояло стать.
174 Расшифровывается, как – дизельный трактор в двадцать лошадиных сил. И дальше, по аналогии.
175 Стипендия превышала жалованье за ремонт трактора.
176 Так звали учителя.
177 После председателя, разумеется.
178 Немного позднее эта должность стала называться – начальник производственного участка. Однако сути дела это нисколько не меняло.
179 Я не случайно взял это слово в кавычки. На самом деле, им никакого дела не было до колхозного добра и тем паче, до какой-то соломы.
180 Неприкосновенный запас.
181 В наших краях устриц не едят.
182 Псалом 90.
183 И конину в наших краях не едят.
184 Что в Курской области.
185 А «провинившегося» человека лишил свободы другой прокурор.
186 До присяги полагалось пройти месячный курс молодого бойца.
187 В Московском военном округе солдатам выдавали яловые сапоги.
188 И если бы сержанты давали время на обмотку портянок. Сорок пять секунд срока на подъём и одевание губили наши ноги.
189 Командовал отдельным батальоном связи подполковник Медведев – заслуженный радиотелеграфист СССР.
190 Время кросса зачитывается по последнему курсанту.
191 А кое-кто и на первый.
192 Как в телеграфном, так и в телефонном режиме.
193 В нашей радиостанции есть мощнейшие приёмники. В отличие от гражданских приёмников, с них легко и без помех записывается всё, что угодно.
194 Например, авиаконструктор Яковлев.
195 Только делают это по-разному. Кто тоньше, а кто пишет об этом прямо.
196 Маршал Василевский.
197 Московская жизнь у нас почти вся на виду.
198 Рядовых должностей у них нет.
199 Разумеется, в рамках официальных.
200 Иногда, правда, случались и исключения из правил. Некоторые замполиты строго следили за солдатской аудиторией. У таких не очень-то расслабишься или вздремнёшь.
201 Что и неудивительно, так как, многие военнослужащие срочной службы имели средне-специальное, а то и высшее образование. Связь, всё-таки.
202 Это сейчас, чуть ли не каждый человек и молодой, и старый востёр на язык. Тогда же, с этим делом, было далеко не так просто. Вспомните, ведь и депутатов-то раньше ценили и голосовали, всё больше, не по делам их, а из-за бойкого и острого языка. Репортажи из зала заседаний различных Советов многие люди смотрели, как интересное кино. Разве не так?
203 Тогда я ещё не знал, что по меркантильным соображениям в партию вступали во все времена. И середина семидесятых годов тому совсем не исключение.
204 О нём я уже упоминал чуть выше.
205 Странно ещё и потому, что этот человек всё-таки прошёл через страшные сталинские лагеря.
206 Не такой дубинкой, какие носят нынешние милиционеры, а той самой, которыми разгоняют зэков при бунтах в колониях.
207 Прошу прощения за подробность, но ещё с месяц я мочился с кровью.
208 В заявлении я написал - «из числа студентов института».
209 Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени… (понятно кого).
210 Как и во многих других сугубо мужских профессиях.
211 Денег не хватало, поэтому приходилось подрабатывать. И не только мне одному.
212 Хотя и не так уж далеко от истины.
213 Кто же с таким забывчивым человеком рискнёт связать свою судьбу?
214 Олимпийский чемпион Афин и действующий претендент на звание чемпиона мира среди боксёров-профессионалов тяжёлого веса. На нашем курсе тоже учился один престарелый студент и с точно такой же боксёрской фамилией, да видно не из того рода.
215 На блатном жаргоне – «кум».
216 То есть, самолёт.
217 Кидать уголёк в топки большого ума и навыка не надо.
218 На блатном жаргоне – «погоняло».
219 Материком называлось всё то, что лежало западнее.
220 Чифир мы не пили.
221 То есть, без жаргона.
222 Так называлось наше старательское общежитие.
223 На страже.
224 Разговор.
225 Говорить на жаргоне.
226 Что интересно, в отдельных моментах, мне пришлось повторить его индигиро-колымский путь. Разумеется, не по этапу, а географически и по воле случая.
227 Мелкая фракция от уже промытых золотосодержащих песков.
228 На Северах - одна из самых распространённых карточных игр.
229 Специальная яма для откачки воды.
230 В этот день мы намыли немногим больше полутора килограмм золота.
231 Так на Северах называют в просторечье вертолёты.
232 На Северах люди собак едят. Не все, но многие. Бытует поверье, что собачий жир и мясо предохраняют лёгкие от обморожения.
233 Балок – небольшое деревянное, жилое сооружение. На Северах очень распространённое. Делают балки в Сусуманской ИТК общего режима.
234 Готовые к употреблению продукты питания. Чаще всего, на один, два приёма.
235 Сейчас в РФ есть даже целое министерство по чрезвычайным ситуациям.
236 По советской же статистике.
237 За исключением, пожалуй, Ю. Марголина и ещё одного или двух авторов.
238 И это несмотря на то, что северные библиотеки довольно-таки хорошо подобраны. Их отличает широта тематики и приличный книжный фонд.
239 Я постоянно чувствовал недомогание. К вечеру у меня поднималась температура, и сильно повышалось кровяное давление. Врачи посоветовали сменить климат.
240 Уже после мои идеи (вполне возможно, что и не только мои!) были воплощены в жизнь.
241 По ельцинскому указу я хлопотал тогда одной бабушке денежную компенсацию за раскулачивание.
242 Об этом я узнал немного позднее.
243 Председатель кооператива-колхоза находился в отпуске.
244 Горбачёв их щедро расселил по России, после известных событий в Узбекистане.
245 Сейчас он архиепископ МП на Камчатке.
246 В комнате было темновато.
247 Я тогда ещё не знал, что и Хризостом тоже, является учеником печально известного митрополита Никодима (Ротова).
248 Уж, в чём-чём, а толк в селёдке я понимаю.
249 Монах, ведающий монашеским и священническим облачением, постельным бельём…
250 Предшественник архиепископа Хризостома на Виленской кафедре. Архиепископ Викторин захоронен прямо в стене кафедрального собора.
251 Крутицкий и Коломенский.
252 Для меня он так и остался на всю жизнь Шуриком.
253 Идеи его я тогда признал бредовыми. Проспорили и проговорили с Валеркой всю ночь и после этого мы с ним ни разу не виделись.
254 А некоторые так и вообще, ни в чём не каялись.
255 Без моего на то согласия и по представлению отца Валерия.
256 Он всё ещё работал плотником в плотницкой колхозной бригаде.
257 Нынешний епископ РосПЦ, управляющий Белгородской и Южно-Российской епархией.
258 Тогда коровы ещё не были такой биологической редкостью, как в наши окаянные дни.
259 Губернатор Курской области.
260 Единственный послушник из Коренной пустыни, последовавший за своим игуменом. Брат Михаил уже отошёл ко Господу. Царствие ему Небесное!
261 Главным образом, опыта северного.
262 Правящий архиерей почти безвыездно сидел в Одессе, и ожидать его приезда не приходилось. А с этими двумя епископами отец Григорий был хорошо знаком.
263 Тогда я не знал и даже ничего не слышал о его содомском грехе и связанностью с КГБ. Если бы знал, то ни за что бы ни поехал.
264 А, вдруг, шпион!
265 Епископ Агафангел (Пашковский) тогда носил титул - Симферопольский и Крымский и считался правящим архиереем Крымской епархии РПЦЗ.
266 И выше я об этом писал.
267 Тогда их было не так густо.
268 В отличие от меня, отец Валерий всегда умел (и всё ещё умеет) нравиться. Этого у батюшки не отнять.
269 О других сферах пока умолчу.
270 То есть, плотно покровительствует.
271 Но ставил их не на гроб. На гроб свечки ставит священник при отпевании.
272 Как и я ему тоже.
273 Пишу о нём, немного забегая вперёд и чтобы потом уже, столь подробно, не возвращаться к этой личности.
274 Говорят, что раньше на месте этого людского поселения плескалось Чёрное море, потом возник лиман и со временем болото. Болотной воды в городе хватает и сейчас. Поэтому без дренажных канав не обойтись.
275 Между владыкой Виктором и отцом диаконом Иоанном уже тогда проглядывались, мягко говоря, неприязненные отношения, и скрывать их владыка не считал нужным. Однако это не мешало им находиться вместе. Не мешает и до сей поры.
276 Архиепископ Варнава (Прокофьев), на то время, правящий архиерей Европейской епархией РПЦЗ (В).
277 Епископ Анастасий (Суржик) – правящий архиерей Дальневосточной епархией РПЦЗ (В).
278 Викарный титул епископа Виктора (Пивоварова).
279 Грех злопамятства. Кого он только и не одолевал. Одолел и владыку Виктора.
280 Яков Аркатов не искал Церкви. И не искал в Ней спасения.
281 То, что он агент от Бога, стало уже притчей во языцех.
282 Отец Иоанн начал открыто подсмеиваться над владыкой Виктором за поселение в жертвенной квартире его бывшей супруги и сына. Владыка Виктор был, несомненно, прав, поселяя свою бывшую семью в этой убогой квартирке. Их домик в деревне сгорел. Куда же их девать? Не выгонять же на улицу? Однако милосердие чуждо отцу Иоанну и его не разжалобишь.
283 Я вычитывал утреннее и вечернее правило. И ещё вычитывал пятисотку.
284 Тогда уже епископе РИПЦ, Кубанском и Черноморском.
285 Так называемая – русская истинно православная церковь.
286 Позднее я понял, что владыку Виктора особенно никогда и не интересовало чьё-то там мнение, если, конечно, оно шло вразрез или далеко отстояло от его наполеоно-гапоновских планов.
287 Крокодиловы слёзы!
288 Сейчас он епископ от киевского патриархата Денисенко.
289 Одно время, его кандидатура выставлялась в епископы РПЦЗ. Содомиты-епископы тащили за собой содомитов.
290 Главным же образом, в жидовствующем и околоцерковном.
291 По крайней мере, так мне казалось и до сих пор, кажется.
292 Прежде всего, в отправке на покой или куда угодно, взбунтовавшегося архиепископа Варнаву (Прокофьева). Отцу Вениамину он перекрывал доступ к всевластию. А владыке Виктору дорогу к правящему архиерейству. Справедливости ради, следует отметить, что, на то время, их заинтересованность полностью совпадала и с интересами Церкви.
293 Тогда я ещё не знал, что это у него обычное явление.
294 И сана.
295 Обычно, за владыкой Виктором.
296 И всё ещё задаю!
297 Еп. Игнатий. Отечник. С. 41. № 199.
298Мф. 5. 44-48.
299 Еп. Игнатий. Отечник. С. 41. № 200.
300 Древний патерик. 1914. С. 55. № 1.
301 Ин. 18:36.
302 Монашеское имя – Дамаскин – берёт своё начало от прозвища святого о. Иоанна. Дамаскин – значит, из города Дамаска.
303 Нынешний мэр Москвы.
304 Моим и диакона Иоанна.
305 Первого января 2004 года, по старому стилю. Монашеский постриг и диаконская хиротония выше тоже приведены по Юлианскому календарю.
306 На российских приходах от РПЦЗ и РПЦЗ (В).
307 Не архиерейское это дело – бегать или же ездить по требам.
308 Преемственности.
309 Диакон Иоанн на Вечерней службе часто отсутствовал.
310 В то время, второй священник у иером. Тихона (Козушина).
311 Несколько раз там и я побывал. Красивое и чудесное место.
312 Кубанский митрополит МП.
313 И не только его одного.
314 К сожалению, такой точный анализ я сделал много позднее.
315 Слава Богу, и до сего дня, редактирует и издаёт.
316 Точнее, из красного кирпича.
317 На самом деле, от отца Иоанна я никогда не слышал даже громкого слова.
318 Лучшего качества просфор и свечей видеть мне не доводилось (и после не довелось!).
319 Приехал он лишь на Троицу.
320 Фамилию я не знал и не знаю. Сама она родом из города Шахты, что в Ростовской области. Так её все и прозывали – Шахтинская.
321 Как на царское, так и на советское.
322 Тех она, просто-напросто, отстреляла.
323А где о царе теперь не говорят?
324 По некоторым данным, ещё не выдержал хронического безденежья и оригинальности о. Иоанна.
325 И совершенно неожиданно для меня.
326 Сейчас он - архиепископ Белгородский и Старооскольский МП. Недавно в Германии ему сделали операцию на сердце.
327 1. Кор. 3. 4-9.
328 Отмахиваются и доныне.
329 То есть не для всеобщего обозрения.
330 Один из районов Воронежа.
331 7/20 августа.
332 Правящий архиерей Волгоградской епархии МП.
333 Рукоположенного этой зимой.
334 За ночь выпало много снега. Я расчищал пешеходные дорожки.
335 К тому времени, Воронеж я покинул.
336 В свете его мировоззрения.
337 Если не ошибаюсь, ему прислали с угрозой письмо.
338 Как потом выяснилось, гриппом я заразил и всю семью отца Валерия.
339 Благоверной супруге отца Вениамина.
340 Время показало, что не такими они оказались и глупыми.
341 И то далеко не всегда.
342 Что я сразу и сделал. И как ни странно, оказался в единственном числе.
343 Иногда и до сей поры задаю.
344 Они все на поверхности и видны невооружённым глазом. Я и сам через это прошёл.
345 1. Кор. 11:19.
346 Позднее мне довелось чаще разъезжать по заграницам. И я убедился, что лучшего презента, чем русская водка, чёрный хлеб и икра, и быть ничего не может. На классический презент денег у меня бы хватило. Но я постеснялся и выбрал розы.
347 Написал по звучанию. За правильность написания не ручаюсь.
348 Оговорюсь, до поры, до времени.
349 И дабы туда не ездить, не мозолить глаза и не терять понапрасну время и деньги.
350 О евреях я ещё скажу.
351 Слово «врагом» подошло бы лучше. Но я не стал его упоминать, потому что, мы не враги? И совсем не противники?
352 Таким вот разрушительным способом.
353 А кто их любит?
354 И сыграл.
355 Предъявив ему те же самые обвинения, что и мы.
356 Используя послушного вл. Антония (Рудей) отцу Вениамину пришлось срочно создавать под себя новый епископат. Но это уже отдельная история.
357 Слово-то, какое знакомое!
358 Забегая вперёд, признаюсь, что до Ольги Ивановны эти деньги так и не дошли. Владыка Виктор не благословил мою поездку в Санкт-Петербург. Приказал никуда не заезжать, а незамедлительно возвращаться на Кубань. Пришлось двести евро отдать в руки епископу. За что у Ольги Ивановны смиренно и хотя запоздало, прошу прощения!
359 В пренебрежении к людям они очень сильно похожи. Особенно к тем, кто ниже их по иерархии.
359 Мф.16:18.
360 Отец Сергий (Чурбаков). Тот самый, что пришёл к нам от Рафаила (Прокопьева).
361 И не только молитвенной.
362 Или, скорее, благодаря.
363 За точность имени не ручаюсь.
364 Пишу об этом с его же слов.
365 25-е Апостольское правило.
366 В Бразилии в это время года осень.
367 И в воздухе!
368 По количеству населения город Сан-Пауло в два раза превосходит Москву.
369 Для меня – чужбина, а для них уже давно – нет.
370 Каждая семья проживала в своих отдельных апартаментах.
371 Здесь они исполинских размеров.
372 Об упокоении, рабы Божьей Фотинии, в селении праведных, я и до сей поры, молюсь еженощно. Спаси её, Господи!
373 Помимо его деток-близняшек, у брата Виктора проживали ещё тёща и сестра покойной жены. Они и ухаживали за двумя малыми детками.
374 После Амазонки.
375 «Смотрите и завидуйте», в том смысле, что, значит, он (она) умнее и удачливее белого человека. Так, что ли, понимать?
376 Эвкалипты выращивают для бумагоделательной промышленности. Но саму бумагу, если не ошибаюсь, производят не в самом Уругвае.
377 Южноамериканцы пользуются пластиковыми удостоверениями наподобие водительских прав. Для проезда через границы их вполне достаточно.
378 Теперь она мантийная монахиня Анастасия.
379 Если не во все!
380 С игуменьей Иулианией и насельницами монастыря я простился в обители.
381 Антония (Орлова).
382 Знаменитый американский киноактёр китайского происхождения – мастер восточных единоборств.
383 Немецкий язык я долго и упорно изучал в средней школе и институте. И слава Богу, не весь его словарный запас ещё растерял.
384 Родители Татианы – супруги Владимира.
385 Со слов владыки Виктора.
386 Если не ошибаюсь.
387 О том Соборе уже много написано, поэтому останавливаться на нём подробно нет особого смысла.
388 Архиерейский Собор РПЦЗ (В) проходил недалеко от канадского местечка Мансонвилль, в резиденции митрополита Виталия (Устинова).
389 Пар.28:«При Синоде состоят следующие должностные лица: Секретарь в сане епископа из членов Синода, (или, по необходимости, в сане священническом), Правитель Дел, который заведует Синодальной Канцелярией, Синодальный Юрисконсульт, Синодальный Казначей и чиновники Канцелярии». Выделенное в скобках было принято на этом Архиерейском Соборе в угоду отцу Вениамину.
390 Владыка Анастасий был отправлен на покой в ноябре 2006 года. Отправили бы раньше, да Свечной Собор внёс свои коррективы.
391 Из-за Л. Д. Роснянской, конечно.
392 Так было раньше, так осталось и до самой кончины митрополита Виталия (Устинова). Ни одно церковное мероприятие, и почти ни один церковный документ не проходил мимо личного секретаря Первоиерарха РПЦЗ (В) – госпожи Л. Д. Роснянской.
393 Разве что, кроме Антония (Рудей).
394 Владыка Антоний дорабатывал последние недели до пенсии в своей американской школе (или колледже).
395 А сенатор давил. Мне уже дважды звонили из посольства, предлагая вернуть напрасно потраченные деньги визового сбора.
396 Архимандрит Стефан (Бабаев) - на то время – благочинный Коми благочиния Южно-Российской епархии РПЦЗ (В) и многолетний кандидат в епископы.
397 Акривия – точность, строгость, соответствие букве закона. Акривии противостоит икономия. Икономия- снисхождение к человеческим немощам и слабостям в церковно-практических и пастырских вопросах, не носящих догматического характера.
398 О чём теперь и сожалею.
399 Епископ Варофоломей (Воробьёв) Эдмонтонский и Западно-Канадский не мог прибыть на Синод по состоянию своего здоровья. Владыка Варфоломей уже давно и очень тяжко болел, и по существу, находился в недееспособном состоянии.
400 И определялось, как катастрофическое.
401 Или в новую «Московскую патриархию».
402 С благословения митрополита Виталия.
403 Встретила нас в аэропорту И. Н. Виноградова.
404 Иногда в Свято-Преображенский скит наведывались и организованные туристические группы.
405 По слухам, когда-то в скиту спасалось 12 монахов. Но с прибытием в скит госпожи Л. Д. Роснянской, братия разбежалась в разные стороны.
406 Архиеп. Антония (Орлова).
407 Или же - он или она.
408 То есть, линию о. Вениамина.
409 Даже и не темы, а к своему родному городу Севастополю.
410 Плавно перетекшее потом в Архиерейский Собор. В итоговых Соборных документах стоит иная дата начала Собора, чем 17 июля. Будь моя воля, я бы поставил дату начала Собора, именно, 17 июля. Так было бы правильнее. Правильнее по духу времени, Указу Первоиерарха и по факту. И на Соборе я на этом настаивал. Мне пытались объяснить, что изменение даты начала Собора в интересах Церкви. Пришлось большинству подчиниться, хотя, я так и не понял этих интересов. Тоже самое искажение касалось и в отношении даты наших архиерейских хиротоний.
411 Вспомнил я о них значительно позднее.
412 Я не оговорился. Это уже немного погодя, возревновав, владыка Виктор восстал против столь громкого титула, и решено было его сменить на более скромный титул - Орловский и Центрально-Российский.
413 Узнав об этом, владыка Антоний стал поминать новопреставленного раба Божия Михаила на каждой Божественной Литургии за упокой его души в селении праведных.
414 Но вида не подающего.
415 Обратно же, прошу прощения, по моему настоянию.
416 По своей греховности, я отнёс такую приятную метаморфозу с архиепископом Виктором к непривычности и привыканию нового сана. И не ошибся. Через какое-то время, владыка Виктор стал обратно таким же, каким был и раньше.
417 Теперь уже не помню, как его звали.
418 Вскоре этот архиерей перешёл на сторону Московской патриархии. И после упразднения Духовной Миссии был переведён на Кубанскую кафедру правящим архиереем. Дослужился он в МП до митрополита.
419 1927 год – время появления Декларации митр. Сергия (Страгородского) о лояльности (сотрудничестве) к советской власти. 1943 год – создание Сталиным Московской патриархии. 1983 год - анафема РПЦЗ на экуменизм. 2006 год – признание Архиерейским (Свечным) Собором РПЦЗ (В) безблагодатность церковных таинств Московской патриархии.
420 А, однажды, в Центрально-Российскую епархию изъявил желание перейти священник Московской патриархии, даже принимавший ислам.
421 Владыка Анастасий обозначил своё присутствие весьма оригинальным способом. Ничего, не отвечая на приглашение, он прислал мне свои проповеди.
422 А на Синоде и ещё одного.
423 Разбойничий Собор в Славянске-на-Кубани проводила, именно, она, а не кто-то другой.
424 По названию города и своего отца-предстоятеля митр. Валентина (Русанцова).
425 И не имеет большого значения тот факт, что архиеп. Лазарь (Журбенко) о хиротонии еп. Агафангела (Пашковского) потом и весьма сожалел.
426 2 Кор.11. 14:15.
427 Хотя сам Дионисий для себя эту проблему, похоже, уже решил, объединившись со своим собратом по Кагалу господином Пашковским из Одессы. По аналогии: если до недавнего времени, в этом городе делали всю контрабандную продукцию (запамятовал, на какой улице), то теперь успешно переключились на псевдоцерковные новообразования.
428 К таким, как организация, всё того же, господина Пашковского.
429 Знают, примерно, так же, как, в своё время, знавали и небезызвестного всем епископа Евтихия (Курочкина), перебежавшего в Московскую патриархию.
430 Если можно так сказать. Прости, Господи!
431 Может быть, в период царствования Феодора Иоановича, патриарха Филарета (Романова) и в поздние годы патриарха Никона.
432 Им проще убить, чем привлекать к уголовной ответственности. Нет человека – нет и проблемы. Лишний шум им не нужен.
433 Еф. 5. 8:12.
434 Первая книга Царств. 8. 4:9.
435 1. Пет. 2:17.
436 Рим. 12:14.
437 Ставших подданными Российской Империи.
438 Из речи архиепископа Новгородского и Старорусского Арсения (Стадницкого) на первом заседании Священного синода при Временном правительстве. (Новгородские епархиальные ведомости. Новгород, 1917. Ng 7. Часть неофиц. С. 324-325).
439 Из поучения архиепископа Харьковского и Ахтырского Антония (Храповицкого) в Успенском соборе Харькова. (Пастырь и паства. Харьков, 1917. № 10. Часть неофиц. с. 27).
440 Из «Призыва» епископа Пермского и Кунгурского Андроника (Никольского) к духовенству Пермской епархии. (Пермские епархиальные ведомости. Пермь, 1917. № 9. Отдел неофиц. С. 160:-162).
441 Обращение к благочинным епархии епископа Енисейского и Красноярского Никона (Бессонова), члена 4-й Государственной думы. (РГИА. Ф. 797. Оп. 86. 1917. Ш отдел. IV стол. Д 64. Л 24. Машинопись. Подлинник). Выделения по тексту епископа Никона.
442 Из речи протоиерея Иоанна Восторгова в первую годовщину Московской Монархической партии, 7 мая 1906 года.
443 Из статьи протоиерея Иоанная Восторгова «Наставление пастыря» после прочтения «Послания Священного Синода – 12 марта 1917 года».
444 Будущего Священномученика.
445 Сказано в 1906 году (по другим данным - в 1908г.).
446 Как видим, не только молчала…
447 Здесь и ниже по тексту, выделено мною.
448 Кн. Жевахов, г. Бари, 14/27 мая 1928 г.
449 Не изжито оно и сейчас.
450 Кн. Жевахов «Причины гибели России».
451 Митрополит Антоний (Храповицкий) «Жизнеописание, письма к разным лицам 1919 – 1939 годов». Письмо №10.
452 ГАРФ. Ф. 3431. On. 1. Д. 318. Л. 36-37об. Машинопись. Подлинник.
453 Деяния Священного Собора... Т. 6. Деяние 67. М., 1996. С. 41-44.
454 И один из признаков его личной духовной ущербности.
455 До его полного покаяния. «Российская Православная Церковь и современная предантихристова эпоха». Стр. 42.
456 Архиерейский Собор РосПЦ 15/28 мая 2008 года.
457 Св. Серафима Саровского, Авеля…
458 Признаться, что-то услышать о них ещё и в монашестве, я ничуть не ожидал.
459 Кол. 3:11.
460 Ин. 8:44.
461 Откр. 14. 1:5.
462 По крайней мере, мне.
463 Как потом выяснилось, никаких особых еврейских привилегий и не существовало. Просто начальнику нравилось все встречать поезда.
464 Расследование В. И. Даля не осталось под спудом. В 1844 году оно было напечатано в десяти экземплярах. Брошюры предназначались исключительно для внутреннего пользования Министерства внутренних дел, а назывались: «Розыскание о убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови их». Лишь в 1913 году расследование В. И. Даля увидело свет и стало общественным достоянием.
465 Читайте – еврейская.
466 Великий князь Святослав (942 г. (?) – 972 г). В 965 году разбил наголову Хазарский каганат.
467 Римский император Тиберий (42 г. до н. э. – 37 г. н. э.) изгнал евреев в 19 году.
468 Елизавета Петровна (1709-1761) русская Императрица. Указ правительственному Сенату от 2 декабря 1742 года.
469 Из газеты «New-York Times», 8 марта 1925 года.
470 Взято из книги Бернар Лазара «L'Antisemitisme», т.1, стр.42.
471 «История Российская с самых древнейших времен». Императорский Московский университет. Том 11, стр. 218, 1773 г.
472 Св. Прав. Иоанн Кронштадтский. 1907 г.
473 Преп. Серафим Саровский. 1832 г.
474 Монах-провидец Авель, 1796 г.
475 Митрополит Антоний (Храповицкий) «Жизнеописание, письма к разным лицам 1919 – 1939 годов». Письмо №10 от 10/23 января 1922 г.
476 Как на этом часто зацикливаются и акцентируют своё внимание некоторые апологеты РПЦЗ.
477 Архиепископ Феофан (Быстров). (1873-1940). Бывший духовник Царской Семьи.
478 Из-за богословских разногласий с митрополитом Антонием (Храповицким) и по другим причинам, архиепископ Феофан Полтавский и Переяславский отстранился от Синодальных и архипастырских дел, уйдя в затвор. Скончался о Господе во Франции в 1940 году.
479 Со времени принятия Декларации митрополита Сергия (Страгородского).
480 У обновленцев благодати никогда и не было.
481 Названы расколы по имени их родоначальников. Митрополит Евлогий (Георгиевский). (1868 – 1946). И митрополит Платон (Рождественский). (1866 – 2934).
482 Для лучшего восприятия текста, я специально не стал выносить в сноски первоисточники публикаций писем и посланий Первоиерарха РПЦЗ.
483 Свободная Российская Православная Церковь. (М. Д).
484 Выделения по отрывку текста о. Льва Лебедева.
485 Письмо о. Льва было написано 6 мая 1994 года.
486 В этом же самом письме.
487 Ходят упорные слухи, будто бы, А. С. Пушкин подарил авторство «Конька Горбунка» Ершову. От щедрой души и по дружбе, взял и подарил. Пусть будет и так. На саму сказку такая щедрость Поэта нисколько не повлияла. Да и читатели не проиграли.
488 Поэма написана в 1924 году.
489 Ин. 1:5.
490 Иак. 3, 2.
491 Мф. 12:36.
492 Из молитвы Св. Ефрема Сирина.
493 Откр. 12:6.
494 Откр. 12. 14:17.
495 Пишу об этом не ради «красного словца», а ввиду того, что сегодня и мне, как Первоиерарху и всему нашему епископату, приходится сдерживать особо ретивых людей от впадения в эти две крайности.
496 Мф. 15:4.
497 Пет. 5. 6:11.
498 Рим. 12. 14:18.
499 Мф. 5:12.
500 Мф. 16:18.
501 То есть, из села Чуево.
502 Жаргонное слово. Зэчарить - означает – отбывать лагерный или тюремный срок заключения по приговору тройки или суда.
503 Потянул, в смысле, начал отбывать наказание.
504 Северное жаргонное слово. Кайлить, то есть, работать. Кайлить, от слова – кайло. Есть такой инструмент для работы в скальном грунте.
505 Освободили от конвоя.
506 Есть такая горная речка в Якутии. Аллах-Юнь – правый приток Алдана.
507 Урка – уголовный преступник.